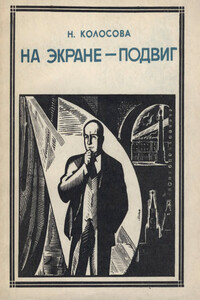Блокадная книга | страница 44
Вот с этого я начинаю утро, только с этого. Я не вру. Пью чаю две чашки крепкого, и это богатство.
Когда умирал человек и ты к нему подходил, он ничего не просил – ни масла, ни апельсина, ничего не просил. Он только тебе говорил: дай крошечку хлеба! И умирал!..
Я осталась, я не знаю, почему я, такая, осталась. Я не знаю почему. Я малограмотная.
У меня детство было тяжелое, отец и мать до революции умерли. Ну, почему я осталась? Может быть, для этого осталась, чтобы рассказать какую-то там историю интересную?»
Массовый голод – это тихие смерти: сидел и незаметно уснул, шел – остановился, присел… Многие наблюдали, запомнили жуткую «тихость» голодных смертей.
«Я шла с работы, и вот (угол проспекта Газа и Огородникова) женщина одна идет и говорит мне: „Девушка! Ради бога, помогите мне!“ Я мимо шла, говорю: „Чем я могу вам помочь?“ – „Ну, доведите меня до этого забора“. Я довела ее до этого забора. Она постояла, потом опустилась и села. Я говорю: „Чем вам помочь?“ Смотрю, она уже и глаза закрыла. Умерла!» (Никитина Елена Михайловна).
Об этом же – Людмила Алексеевна Мандрыкина (Невский проспект, 137).
«– Ну, что вам еще сказать? Вот у нас в военном архиве всегда сидела милиция. И такие замечательные парни были – милиционеры, чудесные, молодые были все. Это те, которые были призваны на войну и оставались здесь в милиции. В милиции кормили очень плохо, так же как и в МПВО. Вот я часто с ними разговаривала, ну, просто говорили о том, что пройдет же это время, что будет потом? Мы старались не говорить об еде. И вдруг, ты смотришь на человека и видишь, что у него стекленеют глаза. Я теперь знаю, что это такое…
– Прямо во время разговора?
– Вот прямо во время разговора. Он сидит… садится, говорит: «Ой! Мне что-то не очень!..» – «Ну, посиди! Всем не очень хорошо…»
Вот двое так умерло на моих глазах. Потом он все медленнее говорит, медленнее…
Вот так умирали люди. Так они умирали и на улице. Когда они шли, кто-то садился на тротуар. Сначала к нему подходили, первое время, а потом его просто обходили, и он часто вмерзал в струйку вот этой воды, которая шла…» Такие рассказы повторяются и варьируются до бесконечности – про тихий, незаметный переход за край голода,– а иные приобретают жуткий образный смысл.
«– Потом вдруг он ко мне обращается и говорит: „Марья Андреевна! Сядьте со мной рядом. Я вам отдам партийный билет. Посидите со мной рядом“. Села с ним рядом, значит. Я говорю: „Где у тебя семья?“ – „Она эвакуирована. Не знаю, мне ничего не пишут“. (Ну, где там писать. Может, и пишут, да не попадает.) И вы знаете, он меня обхватил за шею-то, то ли он хотел поцеловать, то ли что. И он умер! Вы представляете – у мертвого как зацепляются руки? Я никак не могу выбраться оттуда, ничего не могу сделать. А Женя Савич и еще там пришли. Ну, что – они тоже не могут. Ну, еле-еле вытащила голову от него…» (Из рассказа Сюткиной Марии Андреевны, бывшего парторга цеха Кировского завода).