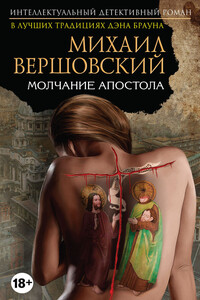В кавычках и без | страница 39
Словосочетание это звучит в каждой публикации на тему «эбоникс» (и в каждой второй публикации вообще). Перевести его, однако, не так-то просто. Это и самоуважение, и позитивная самооценка, и осознание себя. В данном случае, однако, речь идет о некоей оценке себя не как идивида, но как члена группы, общности, социума.
В обстоятельствах, близких к советской и пост-советской реальности, я воспользовался бы словосочетанием «национальное самосознание», бурный рост которого вызывал неописуемый восторг отечественных либералов с самого начала перестройки (хотелось бы верить, что с тех пор восторги поутихли.) В условиях же американских этот термин не проходит хотя бы потому, что с точки зрения национальности там все считают себя (по меньшей мере пока) просто американцами. Здесь, скорее, уместно выражение «расовое самосознание».
Социолог Гуверовского института Шелби Стил заметила еще в начале этой «языковедческой» дискуссии, что "…настоящим центром волны эмоций вокруг «черного английского» является одна из самых соблазнительных и самых опасных идей американской системы образования: self-esteem…" Замечание, безусловно, верное, хотя и неоправданно зауженное в применении. Только ли в системе образования идея эта способна привести к катастрофе?
Сам базис американской государственности – и одновременно американской ментальности – дал мощную трещину. Базисом этим с момента зарождения нации были: индивидуальная свобода и индивидуальная ответственность. Краеугольные камни христианского мироощущения. Библия же с ее этикой – безотносительно того, взирать ли на нее с благоговением верующего или со скепсисом атеиста – была и той центростремительной силой, которой удавалось до поры сдерживать всегда существовавшие центробежные силы и процессы.
Процесс же атеизации, а точнее, де-христианизации, начавшийся более трех десятилетий назад, в последние годы пошел со скоростью поистине космической. (Не могу не вспомнить один из расхожих российских мифов о современном Западе как цивилизации христианской.) Стоит добавить сюда же набравшую невероятную силу государственную машину, по сравнению с которой все до-рузвельтовские федеральные правительства выглядят в лучшем случае заштатными муниципалитетами. Машину, чье вмешательство в жизнь индивидов вызывает нередко прямые ассоциации с Оруэллом.
В условиях падения ценности и значимости индивидуального "Я" и общественной оценки человека с именно этих позиций, естественным, даже насущным стал поиск «моей» общности, самоидентификации с той или иной группой, тем или иным социумом. Отсюда и всевозможные меньшинства, плодящиеся как грибы после дождя («Если ты не лоббируешь за себя, то кто будет за тебя лоббировать?»), где принадлежность определена религиозным, языковым, сексуальным или даже инвалидным признаком.