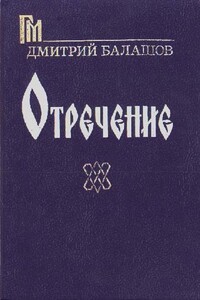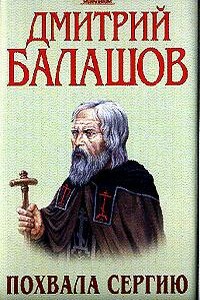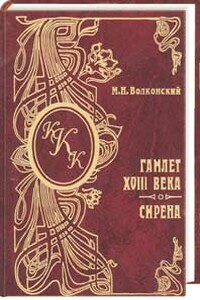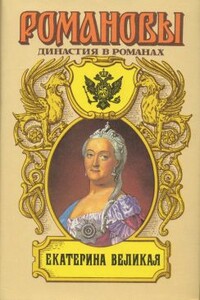Святая Русь. Книга 2 | страница 48
— Торжествуешь, боярин? — недобро кривя сивый ус, прошал тверской князь.
— Нет, княже! — устало и просто отвечал Федор Кошка. — Скорблю! Был бы ты — служил бы тебе верою-правдой. А только, княже, Русь-то у нас одна! Тут, в Орде, ежели годы пробыть, как я, много больше понимать приходит, чем дома, где нам, ни тебе, ни Митрию, власти не поделить! А Русь — одна… Я Руси служу, князь! Уже давно ей, а не князю своему. Князья смертны, как и мы вси. Не веришь, княже, а послушай меня, старика! Молодость и от меня ушла, а земля осталась. И останет после меня. Конечно, я в почете и славе от князя свово, вишь вельяминовский терем купил! А и исчезни все — и почет, и зажиток, и власть — по слову Спасителя нашего, горнего судии, Исуса Христа, повелевшего лишь те богатства сбирать, коих ни червь не тратит, ни тать не крадет, — исчезни все, и что останет? Земля, родина! Гляжу вот тут на полоняников наших, давно гляжу! Вник, понял! Надобна власть! Единая! Дабы тех вон женок с дитями не угоняли в полон! Поверишь, княже, а хошь и не верь! Люб ты мне! Ты и князь без порока, и воин прямой, а — не твое время нонече! Ну, и взял бы ты у нас великое княжение володимерское! И что с того? Долго б им володел? Али Ягайле передать землю русскую?
(«Эх, боярин, боярин! Ведал ты, чем меня укорить!») По суровой щеке княжеской, по уже немолодой, загрубелой, прорезанной морщинами щеке скатилась, блеснув, предательская слеза. На днях дошла весть из далекой Литвы, что Ягайло расправился с тестем Ивана, Кейстутом, уморив дядю в затворе, и любимая сноха, Марья Кейстутьевна, жена старшего сына Ивана, осталась сиротой. Суровый Ольгерд никогда бы не пошел на такое!
Прав боярин! Хоть в этом одном, да прав! И Орда теперь чужая, Тохтамышева Орда! Ему уже не помогла! И не отдаст он, Михайло, русскую землю Ягайле, убийце великого дяди своего, последнего рыцаря прежней, языческой Литвы! Хоть и сам приходит Ягайле дядею!
Ненароком смахнувши нежданную, стыдную слезу, усмехнул Михайло, глянул на московского боярина. Тот сидел, задумчиво утупив взор в столешню, — верно, не видал али не пожелал узреть невольной ослабы князя.
— Ты тута, в Орде, не обесерменился невзначай? — вопросил.
— Нет, князь! — без злобы отмолвил Федор Кошка. — Хоша и то скажу, что всякая вера — вера. И у бесермен своя, и у мунгалов своя, и у тех, что в Индии живут, еще другояка вера! И все люди, и все Богу веруют, и не скажу, что мы одни люди, а иные прочие нелюди, нет, и того не скажу! Насмотрелси! Всякой есь народ и у их! И тоже есь, што нас за нелюдей считают! И токмо как уж я правой веры держусь, дак и тово, в ней родилси, в ней пущай и похоронят меня! Веру порушить — весь язык загубить! Без веры народ — что полова под ветром! И ты, князь, веры православной не отступишь своей, и я не отступлю!