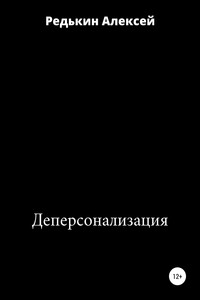История одной смерти, о которой знали заранее | страница 40
Как-то на рассвете, продутом ветрами,– то было на десятом году ее безумства,– она проснулась от мысли, что он в постели рядом, с ней. Она написала жаркое письмо на двадцати страницах, в котором, отбросив стыд, дала волю горьким истинам, застоявшимся у нее в сердце с той самой роковой ночи. Она писала об отметинах, которые он навеки оставил у нее на теле, о том, как солон его язык и как горяч африканский жезл его страсти. Она отдала письмо почтальонше, которая по пятницам приходила к ней вышивать, а потом уносила письма, и была совершенно уверена, что это последнее излияние завершит ее агонию. Ответа не последовало. С тех пор она уже не очень сознавала, что она писала и кому, но писать продолжала неотступно семнадцать лет подряд.
Однажды августовским полуднем, вышивая с подружками, она почувствовала, что кто-то подошел к двери. Ей не надо было смотреть – она и так знала, кто это. «Он потолстел, начал лысеть и вблизи видел только в очках,– сказала она мне.– Но это был он, черт возьми, он!» Ей стало страшно: она понимала, что он видит, как она сдала,– сама-то она видела, каким он стал,– и сомневалась: было ли в нем столько же любви к ней, сколько у нее к нему, чтобы вынести это. Рубашка на нем вся пропотела, точь-в-точь как в тот день, когда она увидела его на празднике первый раз, и был на нем тот же самый ремень и при нем те же самые дорожные сумки с серебряными украшениями. Байардо Сан Роман шагнул вперед, не обращая внимания на остолбеневших вышивальщиц, и положил свои сумки на швейную машинку.
– Ну,– сказал он,– вот и я.
Он привез с собой чемодан с одеждой – он собирался остаться – и другой, точно такой же чемодан, в котором были почти две тысячи ее писем. Они были сложены в стопочки по датам, перевязаны разноцветными лентами и все до одного – нераспечатаны.
* * *
Много лет после убийства Сантьяго Насара мы не могли говорить ни о чем другом. Наше повседневное поведение, до тех пор управлявшееся различными, не зависящими друг от друга привычками, вдруг закрутилось вокруг одного, всколыхнувшего всех события. На рассвете мы вздрагивали от петушиного крика и не спали ночами, пытались разобраться в переплетении случайностей, которые сделали возможной эту нелепость; мы мучились, совершенно очевидно, не из отвлеченного желания разгадать загадку, но потому, что никто из нас не мог жить дальше, пока в точности не дознается, какое место и назначение во всем этом судьба определила лично ему.