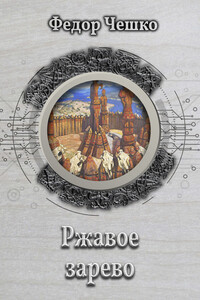Белая ель | страница 60
— Растет… Не осыпался еще. — Он всегда в таких местах растет. Здесь охотники коней поили да спутники плясали. Где они пляшут, ночь светлее, даже моя…
— Я видела ветропляску, — прошептала Барболка, — здесь, и в Сакаци тоже. Пал, я люблю тебя. Ты даже не знаешь, как
— Знаю, — черные глаза близко-близко, Охотнички Боговы, ну за что ему эта ночь вечная?! — Спой, — попросил Пал, — что тогда, на дороге. Барболка глянула в розовеющее небо и тихонько запела.
— В алом небе молния, молния, О тебе всегда помню я. В синем небе радуга, радуга, Ты целуй меня, целуй радостно…
Проклятая кобыла оказалась на удивление резвой, Миклош гнал вороного галопом, но единственное, что ему удавалось, это не потерять Аполку из виду. Бросить бы дуру здесь и вернуться, но есть вещи, которые убивают не хуже меча. Жил человек, жил, потом сотворил несотворимое, и умер. Вроде ходит, говорит, ест, а на деле — упырь, мармалюка, гость холодный. Нельзя женщину в лесу бросать, даже если она тебе хуже жабы болотной. Нельзя и все.
Соловая кобыла вскинула задом и снова свернула. Миклош и представить не мог, что в Черной Алати побольше дорог, чем в Агарии. Аполка давно уже не кричала, но в седле каким-то чудом держалась, но долго так продолжаться не может. Вороной на пределе, еще немного и упадет, да и смеркается уже. Через час себя не поймаешь, не то что проклятую кобылу. Дорогу перегородил сучковатый ствол, и витязь придержал жеребца, не будучи уверен, что бедняга с ходу перескочит преграду. И как только здесь прошла соловая? Взгляд Миклоша скользнул по дороге, впереди лежал нетронутый снег, на котором отпечаталась цепочка следов, но какая-то странная. Словно у оставившей ее лошади, была лишь одна нога. Морок одноногий! День по кругу водил, ночью за горло схватит!
Сын Матяша по праву считался отважным, но сейчас ему стало жутко. Лес стоял стеной, небо темнело, только на западе багровела закатная стена. Куда его занесло, Миклош не знал, а когда теряешь дорогу в дурном месте, доверься коню. Витязь отпустил поводья. Вороной всхрапнул, свернул с тропы и, увязая в рыхлом снегу, бросился прочь от ощетинившегося сучьями бревна и страшного следа.
Погони Миклош не боялся, у него еще есть час, а, может, и два. Нечисть боится закатной бездны сильней ночной тьмы и дневного света, но рябиновый час короток, и после него нет человеку защитника, кроме себя самого. Поддашься страху, конец тебе, не струсишь, может, и доживешь до рассвета. Мекчеи был не из робких. Когда проклятая тропа скрылась из глаз, витязь остановил вороного на какой-то прогалине, торопливо содрал подбитую мехом куртку, стащил рубаху, снова оделся, обтер теплым полотном взмыленного коня и вновь вскочил в седло. Жеребец втянул ноздрями странно теплый ветер и уверенно порысил на закат. Судя по всему, ничего страшного рядом не было. Наоборот, было на удивление спокойно, а потом Миклош услышал песню. Кто-то пел прямо в лесу, чистый, звонкий голос сливался с ветром, а, может, это пел ветер, обещая весну, птичьи стаи в синем небе, высокую радугу над зеленым юным лесом.