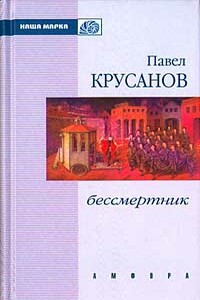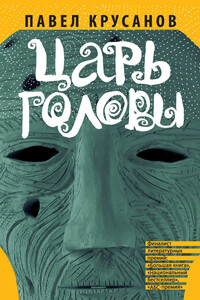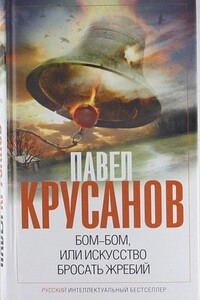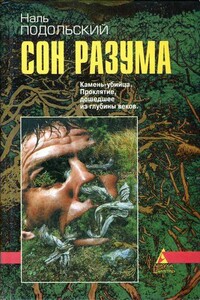Беспокойники города Питера | страница 135
Если Леонид Богданов решает, например, что данное конкретное здание на фотографии должно стать сплошным черным пятном, он, как говорят фотографы, его «запечатывает», то есть увеличивает экспозицию при печати, добиваясь желаемой черноты. Но при этом он следит, чтобы отсветы на стенах, блики на стеклах и т.п. не исчезли с листа полностью, а остались бы в виде почти незаметных следов, которые уже не читаются как часть изображения, но все же как-то воспринимаются глазом. То есть он изображает черноту все-таки с помощью света, и такая чернота живет, дышит, пульсирует, она может пугать или завораживать.
Петербург Богданова, как правило, столичный. Есть только один район, с которым у него отношения не имперские, а скорее интимные, родственные. Это Коломна. Он провел в ней немалую часть жизни, здесь, неподалеку от Аларчина моста, помещалась его мастерская. Сюда он не выезжал на съемки, а просто бродил с фотоаппаратом по улицам, и здесь Петербург показывал ему то, что обычно имперские столицы стараются прятать, — задумчивое запустение, темные закоулки, людей-призраков и всевозможных неприметных своих обитателей, коих «так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе». Старушки, старики, алкаши, дети, собаки и голуби. Есть у Богданова два странных кадра, красивых и отчасти пугающих. Из арки подворотни вырывается солнечный свет и ложится на асфальт полукруглым пятном, слепящим на фоне темноты стен. И в этом пятне, как на предметном стекле микроскопа, — три напоминающие насекомых черные фигурки, фантомы Города. На самом деле это всего лишь дети, мальчишки. Это — коломенское.
СЕРГЕЙ КОРОВИН
Хренов как роман
Помни, гибель героя — предлог для его бытия.
Рильке
Вот если когда-нибудь меня строго спросит — какой-нибудь, например, следователь или исследователь, — когда и при каких обстоятельствах ты познакомился с Сергеем Александровичем Хреновым, русским, 1956 года рождения, то я — хоть режьте — смогу только пожать плечами. Откуда я помню? Да и прошло с тех пор ой-ой-ой, сколько времени. Ведь то ли конец семидесятых, то ли начало восьмидесятых — не суть, тогда все друг с другом знакомились, такая была пора, все консолидировались. Зачем-то. Кстати, почему-то помню, как познакомился с Борисом Ивановым: это мы с Аркадием Драгомощенко взяли не помню уж что, и искали, где бы выпить, а он говорит: пошли к Боцману, тут рядом, на Гривцова. Приходим в котельную, представляют меня какому-то дядьке сильно меня постарше, а тот и говорит, мол, я слышал, что вы в армии служили, ну и как там — очень интересно — с гомосексуализмом? Ах, ты, думаю, хрен моржовый, за кого ты меня принимаешь? Ну, молись, что ты такой авторитетный — я-то про него и про «Часы» давно слышал, — а то дал бы я тебе в рыло. Короче, взял себя в руки: отлично, говорю, обстоит, не наблюдалось у нас в дивизионе никакого гомосексуализма. Словом, не понравился мне этот Иванов, хоть и рассказки мои читал, и в редколлегию пригласил. Да, он и пить с нами не стал — на что-то сослался, а я такого тогда еще не видал: тут ему наливают, а он: спасибо, не буду. Возмутительно себя вел. Ну и я ему, наверное, тоже не сильно приглянулся. Потом уже, бывало, придем его поздравлять co Светлым Воскресением, а он крашенки мои непременно разыщет в общей куче и испортит. И «Приближаясь…» три года в «Часы» не пускал, сушил. Ладно, Господь с ним, ни к кому претензий не имею.