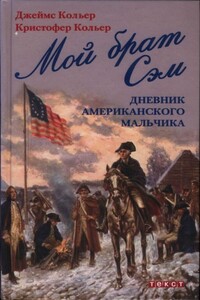Дюк Эллингтон | страница 7
На одном из концертов мое место в зале оказалось рядом с Арамом Хачатуряном. Реакция его была бурной, восторженной: «Для меня это первый подлинно джазовый композитор! Не могу насытиться его музыкой. В ней кровь кипит. Это по мне!»
В антракте мы с Хачатуряном прошли в артистическую к Эллингтону. Музыканты приветствовали друг друга, обнялись. Я вглядывался в Эллингтона. Он был оживлен, но видно было, как он устал. Конечно, возраст наложил печать на его облик: осунувшееся морщинистое лицо, короткие, чуть вьющиеся, тронутые сединой волосы, руки мягкие, гибкие, но тоже в морщинах. У Эллингтона низкий, хрипловатый голос, говорил он медленно, чуть растягивая слова, был предельно внимателен к собеседникам. Он дарил окружающим ощущение домашности, покоя.
Но чем больше я всматривался в его лицо, тем явственней выступали на нем, казалось, несогласуемые, так поражавшие меня состояния: открытая, белозубая улыбка и глубинная, мудрая, всепроникающая печаль в глазах. (Я вспомнил: подобное выражение можно увидеть на многих портретах Луи Армстронга.) Я думаю, что Эллингтон, будучи знаменитым артистом, контактным, «прилюдным» человеком, постоянно выходящим на публику, по сути своей оставался скрытным, боялся выставлять себя напоказ. Эллингтон тщательно оберегал свой внутренний мир, дорожил его тишиной и тайной и мало кому открывал душу.
Прошли годы, и я нашел подтверждение своим мыслям у самого Эллингтона: «В этом мире у нас много стремлений, но мы видим: каждый из нас одинок. Одиночество каждого — основное, исходное состояние человечества. Парадокс в том, что ответ на это чувство одиночества и способ его преодолеть — общение — содержатся в самом человеке».
…Однако вернемся в концертный зал. Присмотримся к Эллингтону, когда он за роялем.
Как пианист он был парадоксален, не подходил под обычные мерки, все делал вроде бы «не так». Вряд ли можно назвать его и солистом в общепринятом смысле: техникой он не блистал, о виртуозности высшего порядка и речи не было. Эллингтон в основном играл вместе с оркестром, отдельные сольные вставки более походили на интерлюдии, носили характер связок между разделами композиции. Один музыкант, не в силах постигнуть феномен игры Эллингтона, воскликнул в сердцах, восхищаясь и удивляясь одновременно: «Это гениальный пианист без техники!» Он был не так уж далек от истины. Эллингтон выделялся чем-то иным, прежде всего поразительным сплавом артистических качеств. Несмотря на странную, низкую посадку рук, у него было прекрасное туше, рождавшее мелодическую протяженность, особую певучесть тона. Игра, скупая на краски, никаких пианистических эффектов, и при этом — насыщенность, осмысленность каждой фразы, каждого аккорда, даже отдельно взятого звука. Духовность — вот что прежде всего ощущалось в его игре.