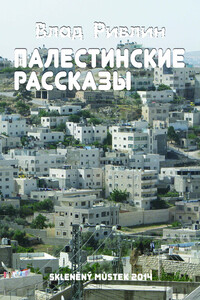Друг мой Момич | страница 75
- Видишь али нет, змей?
В том месте, где он лапал ногу, оставались ямки-вмятины. У него разбрякло и стало каким-то серо-тестяным лицо, и глаза заплыли и умалились.
- Ты б сходил к кому-нибудь да пожаловался: дядя, мол, родной захворал...- Он глядел на пральник, а сам все метил и метил ямками свои сизые ноги. Заодно и тулуп прихвати. Скажи: с гарусом, почитай новый. Пускай дают две ковриги... Ну, чего вылупился?
Потом я никогда не испытывал такой люто-взрывной, мутящей разум ярости, как тогда. Я ничего не успел ни подумать о чем-нибудь, ни прицелиться, и пральник ударился в потолок, потому что кидал я его в Царя обеими руками. Мы закричали разом - Царь подголосно тонко, призывающе на помощь, а я задушенно и ослепше, чтоб он опустил портки. Я опять схватил и занес для броска пральник, и Царь оправил портки, повалился навзничь и заголосил.
Весь этот день-праздник я просидел с пральником на лавке. Она взлетала и проваливалась, и за нее надо было крепко держаться...
К нам никто не заходил, и по утрам я подпирал из сеней дверь хаты и шел на выгон. В такую пору в Камышинке доились коровы и затапливались печи, и я видел, в какой хате что пеклось и варилось. Чтоб проулок не качался, надо было глядеть повыше земли, на небо, а щавель я рвал сидя. Его лучше было есть пучками, а не по одному листику,- быстрей наедалось. Цареву норму я прятал за пазуху под рубаху: мне не хотелось, чтоб кто-нибудь видел и знал, что мы едим...
Словить пескарей было трудно, потому что все уплывало - ракитник, и речка, и берег, и я сам...
Двух голубят, что я взял из гнезда на матице в Момичевом сарае, не нужно было ни резать, ни опаливать, и я сварил их в кипятке и отдал Царю. Он не спросил, что это, и не сказал, сладкие они или какие...
Чем больше мне хотелось есть, тем дальше я обходил встречных - чужих и знакомых...
Тогда наступила жара. Ветра совсем не было, а на проулке и на нашем да Момичевом непаханых огородах то и дело карусельно завихривалась и поднималась к небу горячая пыль - ведьмы жировали. В хате у нас тошно пахло прелыми дынями, и я редко заходил туда - Царь не вставал, ничего не хотел и не просил, а ведро с водой я занес к нему на печку. По ночам в хате сильней думалось про еду, чем на воле, и я подолгу сидел на дворе. Над речкой и ракитником белой горой поднимался туман. От него то и дело табунками отделялись большие круглые шматки и, вытягиваясь в столбы, наплывали на Камышинку стоймя. Момич так и побластился мне - меж двух столбов на проулке, тоже весь белый, только с черной головой и с длинной горящей палкой в руках. Я не отвернулся и не зажмурился - пускай плывет, все равно сомнется и растает на улице, но он сместился с проулка в наш "сад", помешкал под сумраком яблони и вышел под месяц - как живой. Я не зажмурился и не отвернулся, когда он пересек улицу, пропал под навесом ворот, а потом объявился на своем дворе. Кобель кинулся к нему и взвился, и Момич занес горящую палку за спину и обеими руками обхватил кобеля... Мне не надо было ни глядеть, ни зажмуриваться - я знал, что утром, когда проснусь, Момич пропадет сам. С теткой я тоже теперь часто встречаюсь и вижусь. Мы с нею знаем и помним, что она убита, но говорить об этом нам нельзя, чтоб ей не пропасть от меня совсем. От таких встреч страшно бывает только утром, а во сне хорошо. Во сне не надо ни зажмуриваться, ни отворачиваться...