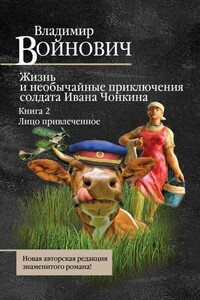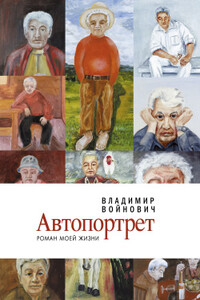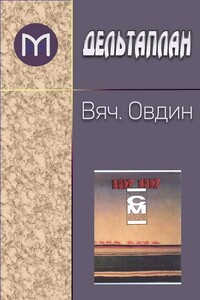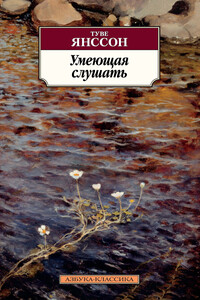Портрет на фоне мифа | страница 26
Смирение незнакомо нашему герою, а оно как бы его украсило! Тем более при постоянном подчеркивании своей религиозности.
Выборочные признания о давних поступках (проступках) ставит себе в заслугу. Покается, но тут же отметит (боясь, что другие упустят из виду): вот какой я хороший, я каюсь, а вы? Но покаянные слова его относятся к чему-то, что было тому назад лет с полсотни, а поближе к нашему времени лишь полное удовольствие от своих мыслей, слов и действий. Ни разу не спохватился и не сконфузился, что не то подумал, сказал, сделал, кого-нибудь зря обидел или подвел. И, между прочим, необязательно каяться публично и бить себя кулаком в грудь. Можно устыдиться чего-то, оставить это в себе, но для себя сделать из этого вывод.
А о качестве своих текстов когда-нибудь подумал критически?
Всякое искусство отличается от большинства других занятий именно тем, что творец его обязан быть своим самым придирчивым критиком и оценивать себя трезво. Когда-то можно и восхититься только что сотворенным (Ай да Пушкин!), и облиться слезами над собственным вымыслом, и хохотать над ним же безудержно, как это бывало с Гоголем или Зощенко. Но случаются ведь моменты (как же без них?), когда художник ощущает, что меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он, когда сомневается в себе и даже впадает в отчаяние. Бывают же минуты, часы и дни, когда просто не пишется. Или возникает желание отказаться от прежде опубликованного, а что не успел напечатать, – разорвать, растоптать, уничтожить.
Пушкин читал свою жизнь с отвращением, Толстой сомневался в ценности своих книг и уличал себя в тщеславии, Гоголь и Булгаков жгли свои рукописи…
Неужели ни разу не возникло соблазна совершить что-то подобное?
Для писателя самодовольство хуже самоубийства. Собственно, оно само по себе и есть вид творческого самоубийства.
Ну ладно, живет он в Вермонте, сам собою любуясь.
Работает, ныряет, слушает койотов. И музыку, кстати, тоже: ездит на концерты сына. А есть ли еще какая-нибудь духовная жизнь? Читает ли что-нибудь, кроме материалов для Красного колеса? Перечитывает ли русскую классику? Знаком ли с мировой современной литературой? В каком-то давнем интервью сказал, что иностранных авторов читал мало – нет времени. Но, может, потом прочел. А как насчет всяких мыслителей вроде, допустим, Ганди, Паскаля или кого еще? А читает ли кого-нибудь из русских современников?
Обозначенный им самим круг чтения не широк и состоит из деревенщиков и двух– трех примыкающих к ним. Где-то отметил Владимира Солоухина, Георгия Семенова. Потом: Умер яркий Шукшин, но есть Астафьев, Белов, Можаев, Евгений Носов. Стоят, не сдаются!… Где стоят? Кому не сдаются? В семидесятые-восьмидесятые годы, когда Солженицын и другие писатели были отторгнуты от живого литературного процесса, а самиздат стал чтением опасным и малодоступным, сочинения деревенщиков оказались единственной альтернативой казенной литературе. Они были и читаемы публикой, и обласканы властью, противопоставлявшей их диссидентам. И не стояли, а сидели в президиумах. А Василий Белов еще и в бюро Вологодского обкома КПСС. Распутина государство отметило Ленинской премией и высоким советским званием Героя Социалистического Труда. Да и остальные никакому нападению не подвергались, а когда Солженицына травили и тащили в Лефортово, деревенщики стояли в стороне. Но они пришлись по душе Александру Исаевичу, который, повторяя Можаева, сказал где-то, что они пишут не хуже Толстого, потому что и деревню знают, и высшее литературное образование получили. Следя за ходом дел из Вермонта, он писателей другого круга в России не заметил, а из эмигрантов выделил двоих, тоже крепко стоявших.