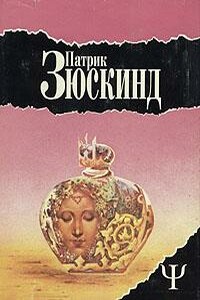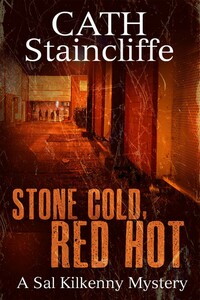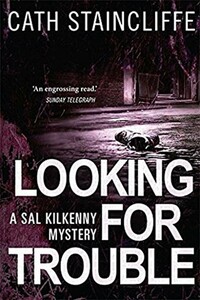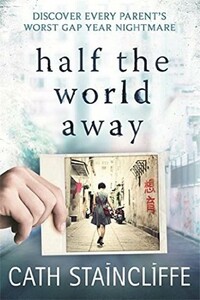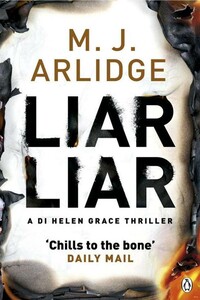Голубь | страница 30
Но не только им! Не только этих кельнеров-сопляков, но и их клиентуру следовало бы отдубасить хорошенько, эту идиотскую свору туристов, разгуливавшую в летних сорочках, соломенных шляпях и темных очках и заглатывавшую в себя непомерно дорогие прохладительные напитки, в то время как другие люди в поте лица своего трудились стоя. И еще шоферов. Вон! Вон тех тупоумных ослов в их вонючих развалюхах, загрязнителей воздуха, отвратных производителей шума, которые целыми днями напролет только и делали, что гоняли туда-сюда по Рю-де-Севр. Разве не достаточно уже было кругом вони? Не хватало ли уже и так шума на этой улице, во всем городе? Мало вам невыносимой жары, давящей с неба? Так вы еще забираете в ваши моторы последние остатки пригодного для дыхания воздуха, сжигаете его, смешиваете его с ядом, копотью и горячим чадом и выдуваете его порядочным гражданам под нос! Мерзавцы! Преступные элементы! Истребить бы вас всех. Да-да! Выпороть и истребить. Расстрелять. Каждого поодиночке и всех скопом. О-о, как хотелось ему вытащить свой пистолет и открыть стрельбу по чему-нибудь ? по кафе, прямо по самой витрине, так, чтобы зазвенело и посыпалось стекло, по скопищу автомобилей или просто по одному из домов-громадин напротив, ужасных, высоченных, угрожающих домов, или в воздух, вверх, по небу, да, по жаркому небу, по страшно давящему, угарному, сине-голубиносерому небу, так, чтобы оно треснуло, чтобы тяжелый как свинец купол раскололся и обвалился от выстрелов, рухнул вниз и раскрошил все, похоронил под собой все ? все, все, весь этот мерзкий, надоедливый, шумный, вонючий мир: таким всеобъемлющим, таким титаническим был гнев Джонатана Ноэля в эти послеобеденные часы, что он готов был сокрушить весь мир из-за одной дырки в своих брюках!
Однако он ничего не сделал, слава богу, он ничего не сделал. Он не стал стрелять по небу и по кафе напротив или по проезжавшим мимо машинам. Он остался стоять как стоял, потел и не двигался. Ибо та самая сила, которая дала подняться в нем фантастической ярости и изрыгала ее на окружающий мир через его глазницы, эта самая сила так парализовала его, что он был больше не в состоянии двинуть ни одной своей конечностью, не говоря уже о том, чтобы приложить руку к оружию или согнуть палец на спусковом крючке, более того, он не мог даже покачнуть больше головой и стряхнуть с кончика своего носа маленькую, мучавшую его капельку пота. Та сила превратила его в камень. За эти часы она действительно превратила его в угрожающе-бесчувственное изваяние сфинкса. У нее было что-то от электрического напряжения, которое намагничивает железный сердечник и держит его в положении равновесия, или от той мощной силы сжатия в своде архитектурного строения, которая прочно удерживает на одном определенном месте каждый отдельный камень. Она была конъюнктивной. Весь ее потенциал был заложен в сочетаниях ?я бы сделал, я бы мог, мне бы больше всего хотелось?, и Джонатан, который формулировал про себя ужаснейшие конъюнктивные угрозы и проклятия, в тот же самый момент очень хорошо знал, что никогда не воплотит их в жизнь. Он был не таким человеком. Он не был преступником-безумцем, который совершает преступление в результате душевной травмы, помешательства или повинуясь приступу спонтанной ярости; и он не был им не потому, что такое преступление могло бы показаться ему неприемлемым с моральной точки зрения, а просто потому, что он вообще был неспособен выражать себя делом или словом. Он не был человеком, который совершает. Он был человеком, который терпит.