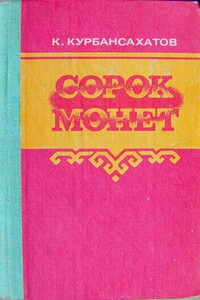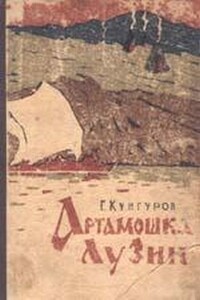Я, Богдан (Исповедь во славе) | страница 82
Теперь же получалось, что мои намерения открыты преждевременно - и не друзьями, а врагами, к тому же высочайшими. Как здесь поступить? Кто посоветует и поможет, если сам не в состоянии сделать это высочайшим напряжением разума и воли. Нападать? Преждевременно. Защищаться? А как и чем? Третьего ведь не дано, люди либо нападают, либо защищаются, даже схимники в пещерах уединяются, защищаясь, обороняясь от света, от искушения, от дьявола.
Кони наши брели по грязи, с трудом продвигаясь по заболоченным улицам, хотя и прижимались мы с Демком почти вплотную к плетням, по пригоркам, выискивая хотя бы мало-мальски сухие места, но какая уж там сухость среди этих потопов. Грязища стояла такая, что ничто живое не могло, казалось, и высунуться с дворов. Лужи расплывались морями и озерами, улицы стали словно бы руслами для дождевых рек и вливались на площади, где вода стояла потопом. Шинок Сабиленко был на площади едва ли не самой большой и поставлен был так, что к нему можно было подъехать со всех сторон, был он не загорожен и не огорожен, только с одной стороны предусмотрительный шинкарь поставил неизвестно для чего кусок крепкого тына с высокими кольями над ним, и теперь именно к этому тыну направлялась какая-то невыразительная фигура - казак не казак, шляхтич не шляхтич, просто пьяный человек, и не из простых, а состоятельный, потому что одежда на нем была дорогая и оружие заметное, да и телом отличался тучным. Брел он от шинка, можно сказать, как свинья нечищеная, направлялся к тыну, а ухо наставлял вперед, будто слушал, прислушивался, не осуждает ли его где-нибудь казак или мужик, не смеется-насмехается кто-нибудь. Нас он еще не видел, потому что направлялся к тому же манящему тыну, наконец добрел до него, схватился за один из кольев, торчавших сверху, перевернулся спиной, ухватился еще и за второй кол, широко разметнув руки, и теперь стоял, будто распятый на этом Захаркином тыне, пьяный великомученик - ни оторваться, ни пошевельнуться, уставившись широкой мордой на нас с Демком, подъезжавших к нему, пустил из узеньких, как у татарина, глаз хитрую улыбку, язвительно-тихим голосом молвил мне навстречу:
- Эй, пан Хмельницкий, где же это ты бродишь-блуждаешь, а что у тебя за спиной творится, о том и не знаешь?
Я натянул поводья, пристальнее всмотрелся в этого казака-неказака, узнавая его, но не узнал.
- Я тебя не знаю, - сказал ему, хотя и негоже было встревать в разговор с пьяницей.