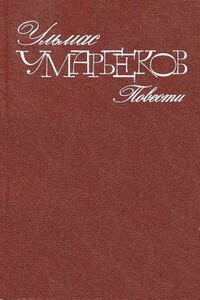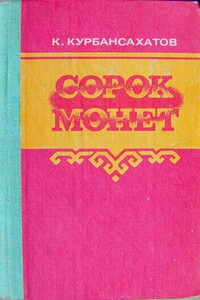Я, Богдан (Исповедь во славе) | страница 80
- Батько, - промолвила тихо, - вы так хорошо пели, так хорошо... Я хотела послушать.
- Я? Пел? - наконец пришел я в себя. - Тебе показалось, дитя мое. Разве я способен петь?
- Так, как вы, никто...
Но договорить не успела, потому что прибежал Тимко, с ласковой бесцеремонностью оттолкнул ее, заслонил от меня, не пытаясь приглушить своего громкого голоса, воскликнул:
- Вот тебе и раз! А я ищу, а я ищу! А она вот где!..
Славный казак вырастал, саблей рубился с обеих рук уже не хуже меня, грамоте обучил я его вместе с Матронкой и моей Катрей, затягивая в Субботов самых лучших учителей, каких только мог раздобыть в сих краях, а мягкости в душу, вишь, не сумел я сыну влить. Грубым был и дерзким даже перед отцом родным.
Не хотел я отчитывать Тимка за его неуместное поведение, да и не было на это времени, потому что еще один человек появился, чтобы нарушить мое одиночество, а может, следом за Матроной и Тимошем, так что не поймешь, кто кого выслеживает, кто кого оберегает. Неслышно появилась пани Раина, встала поодаль, молча смотрела на нас троих, молча и не без радости. Где трое, там нет греха. И ничего нет. Кроме разве что ненависти. Но об этом тогда не думала ни пани Раина, ни я и никто из нас.
А нужно было бы думать, ой нужно! Только глупцы тешат себя мыслью, будто знают все про людей. Человек - непостижим. Недаром древние упорно повторяли: познай самого себя, познай себя! Я же, боясь заглянуть к себе в сердце, не пробовал заглянуть в души своих близких и впоследствии должен был жестоко расплачиваться за такую легкомысленность.
Тогда я не слышал и не видел ничего, кроме темного зова страсти, который низко выплодился во мне и с неодолимой яростной силой вел меня за этими серыми глазами под темными бровями, и, хотя я знал, что не должен был поддаваться, что все это преступно и позорно, я не мог противиться, я отбросил все угрызения совести, я шел слепо и послушно и уже не был у себя на хуторе в Субботове, не был в своем времени, перенесся на много лет назад и на расстояние неизмеримое, оказался в замкнутом каменном дворике, украшенном внутренними галереями, на которые выходило множество дверей из узких келий, и одни двери были мои, и келья была моя у отцов иезуитов, с моим твердым ложем, со столом и книгами, дозволенными и запретными, в которых я вместе со своим наставником Мокрским искал пророчеств, как искал их в небесных знаках, в травах и деревьях, в голосах людей, пробовал истолковывать собственные сны, угадывать судьбу при помощи хиромантии, вчитывался в таинственные тексты псевдо-Иосифа, разбирал азбучные ключи псевдо-Даниила, трактат Артемидора Эфесского, "Clavicula" Соломона. А потом бросал все, исступленно всматривался в сумерки мира, в которых клубились дьяволы, а из-за них появлялась жена с тугим лоном, высокими персями и телом, пахнущим марципанами, и я летел в темноте к иезуитской фурте, которую стерег верный Самуил, и рвался за фурту, за реку Полтву, где зеленый дух травы и могучей жизни. И этот дух овладел мною и теперь, он был будто дьявольское наваждение, ниспосланное мне в такую тяжкую минуту, чтобы до конца изведал я ужас проклятья, самую страсть, брезгливость к себе, предел страданий. Я чувствовал, что утопаю, гибну, предаю себя и Ганну и все святое, но был не в силах одолеть смертельное искушение и ринулся в грех явный или только призрачный, в шепоты и вздохи, в плотские стоны и жаркие объятия. Какая суета! Стоны любви были стоном умирающей Ганны, молодое тело, которое я обнимал, было телом Ганны...