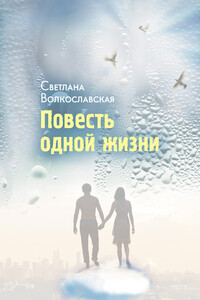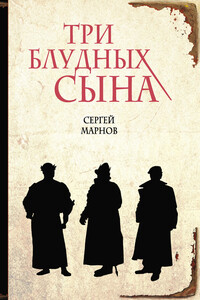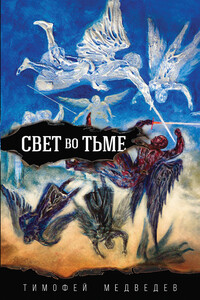Течение неба : Христианство как опасное путешествие навсегда | страница 54
Таким образом, чрезвычайная редкость самого жанра «Слова о полку Игореве» обеспечивает к нему особенный интерес. Для славянских литератур это явление уникальное. Но это интерес такого свойства, который должен был бы отодвинуть «Слово о полку Игореве» в какую-то особую резервацию (пускай сколь угодно обширную), но на обочине основных исследований по древнерусской литературе. Произошло, как известно, с точностью до наоборот.
Почему?
Свою роль сыграли идеологические ограничения и заказы со стороны советской власти, но все же лихачевский культ «Слова о полку Игореве» был Лихачевым только раздут, а создан он был еще в XIX веке, когда сложился и тот подход к изучению древнерусской литературы, который затем культивировался Сектором. Буланин очень точно назвал его «романтическим» и указал на С. П. Шевырева (его «Историю русской словесности», 1846–1860) как на основоположника такого подхода (с. 87–90). Суть этого подхода в том, что древнерусская литература анализируется по таким же критериям, как русская литература классического периода. При этом забывается, что для средневекового книжника понятия «литературы» в современном значении этого слова не существовало, и «памятники древнерусской литературы искусственно отделяются от письменного наследия других православных славян». Как справедливо замечает Буланин, «это далеко не лучшее, что осталось от деятельности Сектора древнерусской литературы за годы его расцвета» (с. 87).
Фанатичный интерес историков древнерусской литературы к «Слову о полку Игореве» — это просто символическое и почти ритуальное выражение того подхода, который Буланин справедливо называет романтическим (поскольку он был порожден эпохой романтизма, с его культом индивидуальности и тому подобными прелестями), а мы с не меньшим основанием назовем интеллигентским.
В том самом знаменитом письме «О русской интеллигенции», которое мы тут уже цитировали, Д. С. Лихачев писал: «Но высокой русской интеллигенции нового времени в древней Руси еще не было».
Действительно, не было. Этим и объясняется, почему интеллигенция больше всего в древнерусской литературе полюбила то, что в ней было наиболее маргинальным. А уже самой интеллигентностью интеллигенции объясняется то, что и заниматься ей было интереснее всего именно тем, что она лучше понимала и любила. Интеллигенции плохо прививался дух обычного научного интеллектуализма, преобладающего в филологических штудиях по литературам Христианского Востока, когда, например, филологи издают тексты сложнейших богословских трактатов, едва представляя себе, хотя бы на какую тему там речь. Такая «чистая наука» и «филология для филологии» была бы для интеллигенции слишком «чистой».