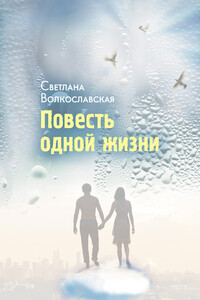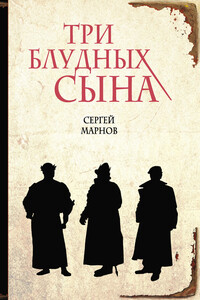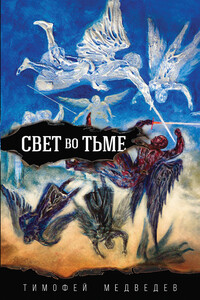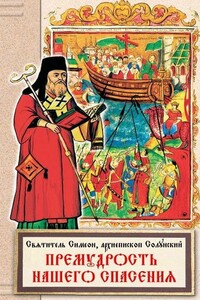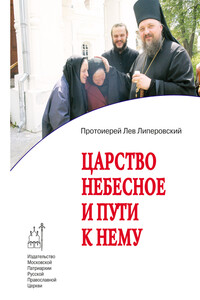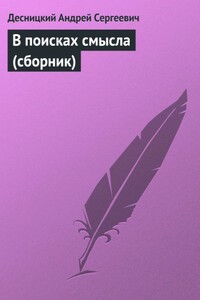Течение неба : Христианство как опасное путешествие навсегда | страница 48
Все идеологи русской интеллигенции, не исключая Лихачева и Буланина, понимали, что наука бывала возможной там и тогда, где и когда русской интеллигенции не было. Наука делается силами интеллектуалов, которым совершенно не обязательно быть интеллигентами. Только для России эта очевидность почему-то отрицается — впрочем, не столько Лихачевым, сколько Буланиным.
От дореволюционной России Советский Союз унаследовал научное сообщество, сформированное из интеллигенции. Это факт, на который указывает Буланин и который невозможно оспорить. Но что происходило далее? Сводилось ли развитие советской научной среды к поддержанию, при некоторой неизбежной деградации, существования интеллигентского научного сословия, всеми силами отбивавшегося сначала от «красной профессуры», а потом от прочей лысенкоподобной советской дряни?
Ответ Буланина — «да», но я не могу с ним согласиться.
По-моему, в советское время монополия интеллигенции на науку была разбита, и едва ли не основные достижения в науке послевоенного советского периода принадлежат обыкновенным интеллектуалам — простым людям труда, хотя и, разумеется, труда умственного. Эти люди легко находили общий язык с учеными из интеллигенции, потому что сами не были амбициозны (часто даже с готовностью — может быть, чрезмерной — признавали ученых из интеллигентской среды как некую аристократию и готовы были перед ними благоговеть) и, в то же время, всегда были сосредоточены на конкретных интересах своей науки.
Из советского периода такие ученые вышли ровно тем, кем они были при советской власти, — просто учеными. В отличие от партийно-советской научной дряни, они нисколько не потеряли в научном авторитете, а, в отличие от интеллигенции, они не стали воспринимать потерю учеными социального статуса и прочих материальных благ, пусть даже и необходимых для развития науки, как некую душевную катастрофу. Психология простого трудящегося человека — будь он ученым или водопроводчиком — трудиться по своей специальности, поскольку это допускается обстоятельствами. Его собственная работа создает для него психологическую стабильность. Его мышление не нуждается в таких механизмах защиты, которые деформируют самоё мышление. Обыкновенный человек труда, будь он даже интеллектуалом и ученым, остается самим собой в очень широком диапазоне социальных условий. Он бывает хорошо адаптирован психологически и защищен от характерных для интеллигенции — в кризисные эпохи — расстройств, которые (при наступлении психотической симптоматики) бывают связаны то с бредом величия, а то и с тяжелой депрессией.