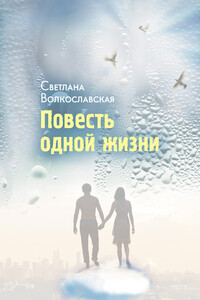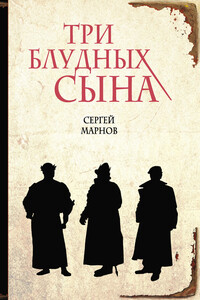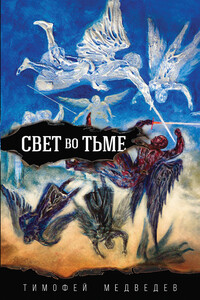Течение неба : Христианство как опасное путешествие навсегда | страница 30
Эти люди считают церковные проблемы важными и не могут о них не высказываться. В отношении абстрактно понимаемой «Церкви» их голос всегда будет «за». На практике эти люди сторонятся общения с церковным официозом: они любят поддерживать знакомство с «хорошими батюшками», а не с церковными начальниками. С начальниками общаются только те из них, которые интересны самим начальникам по причине их общественного положения.
Тогда начальники обычно придерживаются с ними «светского» стиля общения. Это такой стиль, когда епископ или архимандрит или, на худой конец, ворочающий большими деньгами настоятель храма держится подчеркнуто светски, давая понять, что он «вообще-то нормальный», хотя по работе ему и приходится использовать забавный средневековый реквизит и исполнять на публике художественные перформансы. Такой стиль поведения духовенства лучше всего воспринимается в среде артистов и чиновников, но чем дальше от профессионального лицедейства, тем хуже, и за счет этого создается частичная — но проницаемая — изоляция наших «светских верующих» от церковного официоза.
Не будучи связаны с церковным официозом какой бы то ни было корпоративной этикой, эти наши «светские верующие» обычно не принимают никакой стороны ни в каких церковных разделениях. Для них нет особенно большого различия между православием и католичеством, а уж тем более — между разными юрисдикциями православия. Тут тоже действует народный подход «что ни поп, то батька». Поэтому никакой корпоративной лояльности ни к какой юрисдикции у них нет. Посещая храмы РПЦ МП, они совершенно без проблем открыты к самой уничижительной критике епископата, поскольку они лично никак с епископатом не связаны. Если они с чем-то и связаны лично, то это привычные стены храмов — камни, а не копошащаяся поверх камней «органика», которая сегодня одна, завтра другая. Если для кого-то «Церковь не в бревнах, а в ребрах», то есть не в зданиях, а в людях, то для наших «светских верующих» все в точности наоборот: место церковной организации как социальной общности у них давно и прочно занято общностью сословной. Быть частью своего сословия («слоя») для них понятно и необходимо, а что такое быть частью церкви как сообщества, для них или непонятно вообще, или понятно, но слишком абстрактно, чтобы влиять на их социальное поведение. Они хорошо понимают, что такое вести себя как «человек нашего круга», но христианство как образ жизни им понятно лишь в тех пределах, в которых оно пересекается с этикой «нашего круга» (то есть дворянской этикой XIX века, в той или иной степени разбавленной — это у кого как — компромиссами ради выживания под властью человекообразных зверей).