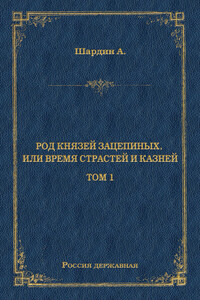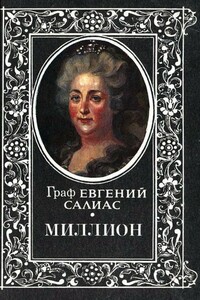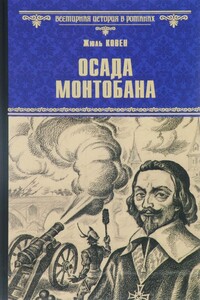Браки по расчету | страница 7
Еще в годы фашистской оккупации Нефф задумал роман из эпохи средневековья, но закончил его только в 1953 году. Речь в нем идет о трех поколениях одного чешского феодального рода. Отсюда и название романа — «Папы из Серпна». В этом произведении Неффа, рисующем Чехию конца XII — начала XIV века, в сущности, нет ни одного реального исторического лица. О деяниях королей и крупных феодалов упоминается лишь вскользь. События общегосударственного порядка представляют не более чем фон, на котором развертывается сложное сплетение судеб главных героев книги. Но хотя владения панов из Серпна лежат в стороне от полей великих битв, История с большой буквы тесно связана с теми внешне малозначительными историями, о которых рассказывает автор. Ведь от того, как складывались отношения панов из Серпна — рядовых представителей класса феодалов, с их подданными — крестьянами и горожанами, с их соседями, с церковно-феодальной знатью и богатыми немецкими бюргерами, с королем, в конечном счете зависел исход этих битв. Писатель стремится показать, как возникали исторические предпосылки и зарождались идеи гуситской революции XV века, одного из самых значительных плебейских движений средневековья. В образах народных вожаков Петра Пудивоуса и Прасколы Нефф воплощает черты десятков безымянных зачинателей аскетических ересей, которые, сгорая на кострах инквизиции и падая под ударами мечей во время подавления крестьянских бунтов, ширили своим примером и проповедью ряды тех, кто хотел установить «царство божие на земле».
«Паны из Серпна» — произведение не просто историческое, а историко-философское. Холодная ирония и героическая патетика придают глубокую художественную оригинальность исторической хронике Неффа, со страниц которой прошлое встает в своей красочной пышности и жестокой неприкрашенности.
Если в «Панах из Серпна» Владимир Нефф был ироническим летописцем зарождения и начала кризиса чешского феодализма, то в романах «Браки по расчету» (1957), «Императорские фиалки» (1958), «Испорченная кровь» (1959), «Веселая вдова» (1962) и «Королевский возничий» (1964), составляющих единую пятитомную эпопею, он становится историческим летописцем подъема и падения чешской буржуазии.
Подобный замысел увлекал многих крупных писателей. Достаточно вспомнить «Будденброков» Томаса Манна, «Сагу о Форсайтах» Голсуорси, «Семью Тибо» Роже Мартен дю Гара, «Дело Артамоновых» Максима Горького. В чешской литературе упадок буржуазии прослеживают Матей Анастасия Шимачек, Анна Мария Тилшова, Карел Матей Чапек-Ход и другие представители критического реализма и натурализма. Нефф мог опереться и на богатую традицию характерного для чешской литературы жанра исторической хроники. Наивысшим достижением в этой области были многотомные произведения Алоиса Ирасека, рисующие эпоху чешского национального возрождения (конец XVIII — начало XIX века). К ним примыкают многочисленные «сельские хроники» таких авторов, как К.-В. Райс, Я. Гербен, И. Голечек, А. Мрштик, И.-Ш. Баар, в целом дающие картину жизни чешской деревни на протяжении всего XIX века. В годы оккупации замечательный чешский писатель-коммунист Владислав Ванчура создает художественную летопись многовекового прошлого своей родины — первые тома «Картин из истории чешского народа». После освобождения Чехословакии жанр исторической хроники, иногда в сочетании с художественными мемуарами, позволил ряду чешских писателей запечатлеть узловые моменты рабочего и национально-освободительного движения (А. Запотоцкий, Ф. Кубка, К.-И. Бенеш).