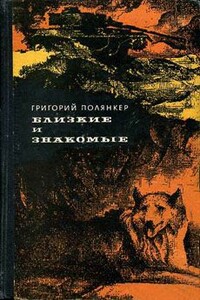Гарвардская площадь | страница 80
Когда он уехал, я стал думать о том, что объединяет нас, пожалуй, не только романтическая привязанность к выдуманной Франции. Это всего лишь верхний слой, иллюзия. Скорее, объединяет нас отчаянная неспособность вести обычную жизнь с обычными людьми где бы то ни было: не для нас обычная любовь, обычный дом, обычная работа, обычные телепередачи, обычная еда с обычными друзьями – у нас и нет-то обычных друзей, а появляются – не задерживаются.
Мы – изгои. Неприкасаемые. Этого никто, кроме нас, не знает. Гарвард помог мне скрыть это настолько надежно, что у меня по неделям, а порой и по месяцам и мысли об этом не возникало, – а уж другие ничего не замечали и подавно. Калаж все прятал на полном виду: орал в ухо каждому, с кем встречался.
Открыв дверь в квартиру, я сообразил, что довольно давно не видел своего жилища ночью. Вид у него был незнакомый. У Нилуфар на Флэг-стрит я чувствовал себя больше дома, чем здесь. При этом в обеих квартирах что-то было не так. Неудивительно, что Калаж предпочитает колесить по городу целый день, а потом зависать непонятно где, – все лучше, чем оставаться наедине с собственной спальней. Я уснул прямо в одежде, и запах постели Нилуфар смешался с запахом моей собственной.
Пожалуй, то воскресенье стало худшим днем моей жизни. Еды в доме не было. Я вымотался, а на освоение наследия Чосера перед встречей с Ллойд-Гревилем остались сутки. И помыслить нельзя было о том, чтобы израсходовать целых двадцать минут на поход за едой.
Ближе к полудню начал названивать телефон. Я знал, кто это, и решил не снимать трубку. Звонки я слышал на всем пути на террасу на крыше, где решил провести несколько часов, а потом сползти вниз и отпечатать свои заметки по Чосеру. Встреча с Ллойд-Гревилем была назначена на десять утра следующего дня. Впрочем, я знал, что заодно я наверху еще и прячусь. Жестоко, бессердечно, трусливо. Линда – она в этот безоблачный теплый прелестный день бабьего лета тоже оказалась на крыше, а я ее не видел с тех пор, как более или менее переехал в другое место и сюда стал наведываться лишь от случая к случаю, чтобы забрать или привезти книги и кое-какую одежду, – вычислила, что звонит именно мой телефон. «Ты почему не отвечаешь?» – спросила она в конце концов. А потом догадалась почему. «Она когда успокоится?» В полдень, когда мы у меня на кухне смешивали по второму «Тому Коллинзу», она предложила: «Хочешь, я сниму?» Я не мог так поступить с женщиной, которая была светом моей души. Кончилось тем, что Линда схватила мой телефон, унесла в ванну и плотно закрыла дверь – будто наказала нашкодившего котенка. Я хотел, чтобы она сняла голубой топик и нижнюю часть бикини и без промедлений проследовала ко мне в спальню. Мне нравилось ее тело, нравился безрассудный секс, свирепый, себялюбивый и лишенный смысла. Мне хотелось, чтобы она стерла эту другую женщину из моей жизни; хотелось целовать ее лицо, губы – и похоронить под этим лицом другую, как хоронят танагрскую статуэтку, ставшую невыносимой и не вызывающую ни капли вины, жалости, любви или даже обыденной злобы, а вызывающую лишь одну эту вещь, которая пугала меня только сильнее, потому что ставила под сомнение не ее, а меня: безразличие. Или даже хуже безразличия: бесчувствие, сперва – в сердце, потом – во всем теле. По контрасту ненависть казалась куда, куда безобиднее – и, возможно, во мне уже постепенно разгоралась ненависть, ибо ненависть помогает забыть, прикрывает раны, которые мы оставили на других, с той же скоростью, с какой залечивает те, которые они нанесли нам.