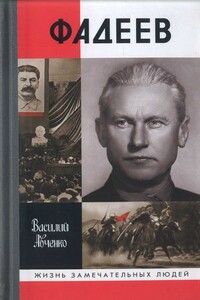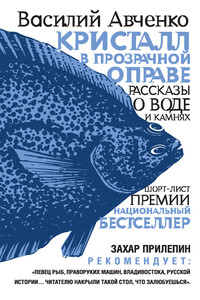Литературные первопроходцы Дальнего Востока | страница 40
Чуравшийся патетики и полемизировавший со сторонниками романтического взгляда на мир, Иван Гончаров, говоря об освоении русскими Сибири, всё-таки не может избежать пафоса: «Я теперь живой, заезжий свидетель того химически-исторического процесса, в котором пустыни превращаются в жилые места, дикари возводятся в чин человека, религия и цивилизация борются с дикостью и вызывают к жизни спящие силы. Изменяется вид и форма самой почвы, смягчается стужа, из земли извлекается теплота и растительность – словом, творится то же, что творится, по словам Гумбольдта, с материками и островами посредством тайных сил природы. Кто же, спросят, этот титан, который ворочает и сушей и водой? кто меняет почву и климат? Титанов много, целый легион; и все тут замешаны, в этой лаборатории: дворяне, духовные, купцы, поселяне – все призваны к труду и работают неутомимо. И когда совсем готовый, населённый и просвещённый край, некогда тёмный, неизвестный, предстанет перед изумлённым человечеством… пусть тогда допрашивается история о тех, кто воздвиг это здание, и так же не допытается, как не допыталась, кто поставил пирамиды в пустыне… А создать Сибирь не так легко, как создать что-нибудь под благословенным небом». Пишет Майкову: «Если вы, любезный Аполлон Николаевич, признаёте, и весьма справедливо, русский пикет в степи зародышем Европы[185], то чем вы признаете подвиги, совершаемые в здешнем краю, о котором свежи ещё в памяти у нас мрачные предания как о стране разбоев, лихоимства, безнаказанных преступлений?»
Иван Гончаров восхищается известными и безвестными героями освоения Сибири – чиновниками, купцами, священниками, которые вынуждены были, выходя далеко за рамки своих служебных обязанностей, становиться историками, этнографами, лингвистами, педагогами… Как раз при Гончарове, на его глазах, русские священники в Якутске составляли грамматику якутского языка и завершали перевод Евангелия: «Почтенных отцов нередко затруднял недостаток слов в якутском языке для выражения многих не только нравственных, но и вещественных понятий, за неимением самых предметов… А один из здешних медиков составил тунгусско-русский словарь из нескольких тысяч слов… Что значат трудности английского выговора в сравнении с этими звуками, в произношении которых участвуют не только горло, язык, зубы, щёки, но и брови, и складки лба, и даже, кажется, волосы! А какая грамматика!»
Иван Гончаров пишет об условиях работы местных чиновников – поистине подвижников: «Да вот, например, понадобилось снабдить одно место свежим мясом и послали чиновника за тысячу вёрст заготовить сколько-то сот быков и оленей и доставить их за другие тысячи вёрст. В другой раз случится какое-нибудь происшествие, и посылают служащее лицо, тысячи за полторы, за две вёрст, произвести следствие или просто осмотреть какой-нибудь отдалённый уголок: всё ли там в порядке. Не забудьте, что по этим краям больших дорог мало, ездят всё верхом и зимой и летом, или дороги так узки, что запрягают лошадей гусём. Другой посылается, например, в Нижне-Колымский уезд, – это ни больше ни меньше, как к Ледовитому морю, за две тысячи пятьсот или три тысячи вёрст от Якутска, к чукчам – зачем вы думаете: овладеть их землёй, а их самих обложить податью? Чукчи остаются до сих пор ещё в диком состоянии, упорно держатся в своих тундрах и нередко гибнут от голода, по недостатку рыбы или зверей. Завидная добыча, нечего сказать! Зачем же посылать к ним? А затем, чтоб вывести их из дикости и заставить жить по-человечески, и всё даром, бескорыстно: с них взять нечего. Чукчи держат себя поодаль от наших поселенцев, полагая, что русские придут и перережут их, а русские думают – и гораздо с большим основанием, – что их перережут чукчи. От этого происходит то, что те и другие избегают друг друга, хотя живут рядом, не оказывают взаимной помощи в нужде во время голода, не торгуют и того гляди ещё подерутся между собой. Чиновник был послан, сколько я мог узнать, чтоб сблизить их».