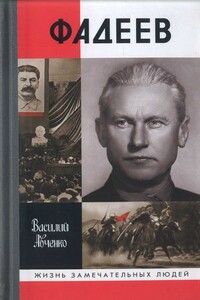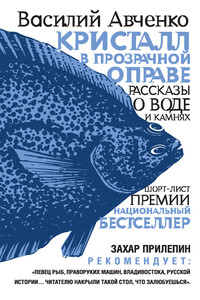Литературные первопроходцы Дальнего Востока | страница 27
У Евфимия Путятина имелись, помимо налаживания отношений с Японией, и другие задачи, связанные – прямо или косвенно – с расширением российского присутствия на востоке. То же – у других европейских стран. Участники Крымской войны решали здесь не только тактические, но и перспективные геополитические задачи. Война эта велась – в том числе – за влияние на Тихом океане.
«Паллада» пройдёт берегом нынешнего Приморья в 1854 году, а уже год спустя здесь будут рыскать в поисках русского флота английские корабли. Британцы дадут гавани, где в 1860 году появится русский военный пост Владивосток, имя «Порт-Мэй». Это было время передела последних незанятых территорий и акваторий; Приморье могло стать одной из английских колоний, вторым Гонконгом, если бы не счастливое для России стечение обстоятельств в виде упрямства капитана Невельского, благосклонности к нему императора Николая I[171], принципиальности дипломатов Муравьёва[172] и Игнатьева[173], а также очередного похода западных держав на Пекин, заставившего Китай искать в лице России заступника и посредника. В 1850-х годах европейцы описывали пока ещё де-факто ничьи приморские берега, давали названия заливам и мысам, промеряли глубины, составляли карты, которыми потом пользовались и русские моряки. Некоторые английские названия дожили до наших дней, будучи просто переведены на русский, – как Тигровая сопка (Tiger Hill) в центре Владивостока или мыс Песчаный (Sandy Point). Через несколько лет после похода «Паллады» Россия заключит выгодные для себя договоры с Китаем и получит Приамурье с Приморьем. Затем придёт очередь проекта «Желтороссия»: основание в Китае торгового порта Дальнего и аренда военной базы Порт-Артур (1898), строительство Китайско-Восточной железной дороги, основание Харбина, расширение экономического и военного присутствия России в Корее.
Но вернёмся в весну 1854 года. «Паллада» проходит мимо острова Чу-Сима (ставшая впоследствии печально известной Цусимой) и приближается к Корее. Карты здешнего побережья, имевшиеся у русских моряков, были фрагментарны и неточны: «Вдруг перед нами к северу вырос берег, а на карте его нет». Иван Гончаров сходит на землю, куда, как он считает, ещё не ступала нога европейца: «Миссионерам сюда забираться было незачем, далеко и пусто». Корея, по Гончарову, – «почти нетронутая почва» для купцов, миссионеров, учёных. «До сих пор мало сведений о внутреннем состоянии и управлении Кореи, о богатстве и произведениях страны, о нравах и обычаях жителей». Действительно, корейцев в России тогда почти совсем не знали, хотя уже в 1864-м начнётся их добровольное переселение в только что присоединённое Россией Приморье.