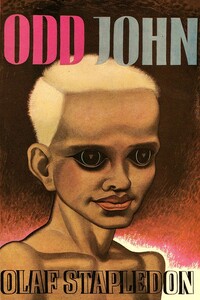Разделенный человек | страница 36
Я обернулся к Виктору. Он смотрел на нее, не пряча восхищенной улыбки, совершенно неуместной в таких обстоятельствах.
– По мне, она похожа на гиппопотама, – заметил я.
– И мне так кажется, – легко согласился он. – На милого, застенчивого гиппопотама. – И уже серьезнее он добавил: – Как обидно, что человеческое лицо иной раз выражает прекрасную душу, хотя души за ним вовсе нет. Ты как думаешь: есть у нее душа?
– Может быть, и есть, – признал я. – Но если так, обидно признать, что такое лицо не в силах ее выразить.
– Боже мой, парень, – возмутился Виктор, – у тебя что, глаз нет? Балбес толстокожий!
За его смехом скрывалось настоящее негодование.
Вдруг Виктор сменил тему:
– Надо рассказать тебе о втором пробуждении за время войны. Я командовал первой ротой, когда началась неожиданная атака немцев. Нам пришлось плохо, но был приказ – держаться любой ценой. Мое сонное «я» поначалу жаждало славы и, как всегда, перло напролом. Много народу погибло под обстрелом. Потом боши выскочили из своих окопов и пошли на нас, а нам уже так досталось, что надеяться было не на что. – Виктор задумался и вдруг остановил сам себя: – К черту подробности, они ничего не значат. Суть в том, что выжившие большей частью отказались от сопротивления и толпой повалили в ход сообщения. Я тоже упал духом и кое-как последовал за ними. И вдруг проснулся – куда полнее, чем в прошлый раз. Как и тогда, все чувства резко обострились, но было еще кое-что. Не найду иных слов, кроме как внезапное овладение ситуацией в целом – как военной, так и… ну, пусть будет вселенской. Очнулся я уже среди общей свалки, и пробуждение так меня потрясло, что я застыл столбом и расхохотался, пригибаясь за краем траншеи. Я ужасающе остро чувствовал свое тело и воспринимал застывшие лица толпящихся вокруг парней. Но в то же время все это представлялось мне, как живые частицы на ярко освещенном предметном стекле микроскопа. Я несколько свысока жалел всех нас, но издалека, отстраненно, потому что одновременно мой разум был занят много большим. Я видел в нас не более как едва различимую глазом крупицу человечества. Я ярко представлял, что прямо за поворотом, так сказать, есть все остальные армии, остальные люди, исторические эпохи отчаянной борьбы человечества, и все это замкнуто в черных небесах, усыпанных звездами. Все это представилось одной вспышкой, смешавшись с мыслями о Сократе и Иисусе Христе, и о проблемах добра и зла.
Конечно, называть это «озарением» глупо. Но в тот миг произошло что-то, чего мне по-иному не описать. Мне вдруг открылось, что бегство ради спасения своей шкуры – это отказ от моей интеллектуальной свободы, прискорбный акт саморазрушения не меня одного – Виктора, скрытого под этой шкурой, – но всего человечества или (лучше сказать), духа, скрытого под шкурой у каждого из людей. Как меня корчило от этого слова! Но как иначе это назвать? Ну, пусть будет нечто, утверждающее всеобщее во мне. В смысле: в каждом из нас – то главное, что только и важно. Я осторожно выглянул и высмотрел пулемет, простреливавший отрезок траншеи, куда забились почти все мои люди. Был шанс добраться до него незамеченным, обойдя с тыла по слившимся в одну рытвину воронками. Жалкий шанс, но какая разница? Пусть я не выживу, зато сумею «утвердить дух». Ну, я пополз и сделал дельце, и мне повезло – меня не заметили. Имей в виду, я это сделал не из патриотизма, не потому, что думал, будто человечеству необходима победа союзников. Мне просто необходимо было сохранить в нас цельность универсального. Я застал несчастных немецких мальчишек врасплох и швырнул в них ручную гранату. Вышло грязно. Один еще мог брыкаться, когда я до них добрался, но я выстрелил ему в лицо из пистолета. При этом я испытывал к нему самые дружеские чувства, но они не заставили меня поколебаться – я сделал это так же просто, как решился рискнуть собственной жизнью. Я это сделал потому, что что-то во мне взялось за работу, которую следовало довести до конца.