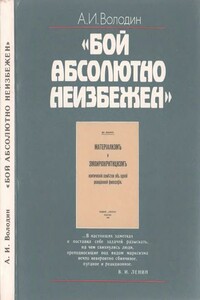Лавров | страница 54
Стремление Лаврова расширить круг просветительской деятельности естественно приводит его к намерению участвовать в работе так называемых воскресных школ. Эти школы в начале 60-х годов создавались во многих городах России. Особенно горячим их энтузиастом был профессор Киевского университета П. В. Павлов (в декабре 1859 года он переехал в Петербург). К июню 1862 года по стране насчитывалось 274 школы. Несколько тысяч учителей и студентов, писателей и журналистов, офицеров и чиновников преподавали в них основы знаний молодым рабочим, солдатам, ремесленникам, их детям. В Петербурге было 28 таких школ (да еще 6 в губернии). Их работой руководил Совет уполномоченных, возглавлявшийся значительное время П. В. Павловым. Среди организаторов и учителей школ мы видим и некоторых знакомых Лаврова: в Самсоньевской школе революционную пропаганду вел С. С. Рымаренко; распорядителем воскресной школы при 3-й гимназии был выпускник Михайловской академии поручик И. И. Аверкиев; в салоне Штакеишнейдеров Лавров часто встречался с еще одним активным деятелем этого движения — Н. С. Кудиновичем. Петербургская интеллигенция не раз устраивала вечера в пользу воскресных школ. На них выступали Бенедиктов, Полонский, Майков, Писемский, Достоевский, Шевченко… Рвался к этому и Петр Лаврович.
1 мая 1861 года попечитель петербургского учебного округа сообщил министру народного просвещения, что полковник Лавров представил ему программу лекций о грамотности, которые он желал бы прочесть в пользу воскресных школ, и что университет против этого не возражает. К отношению была приложена и собственноручно написанная Лавровым программа: «Грамотность на разных ступенях развития человека. Грамотный простолюдин. Грамотный человек образованного общества. Грамотный писатель».
Неизвестно, что именно стало камнем преткновения, но лекции Лаврову прочесть не разрешили.
А полковник Лавров в это время развивает бурную деятельность в Литфонде. Еще в феврале 1861 года на общем собрании его избрали членом комитета и казначеем фонда — и Петр Лаврович с энтузиазмом взялся за исполнение возложенных на него обязанностей.
Энтузиазм этот легко объясним. В годы революционной ситуации Литфонд играл роль своеобразного центра консолидации русской интеллигенции. Используя средства, составлявшиеся из взносов, пожертвований, процентов с изданий, сборов от чтений и спектаклей, комитет Литфонда выдавал пенсии и единовременные пособия особо нуждавшимся писателям и ученым. По этим его деятельность не исчерпывалась. Силою событий Литфонд оказался втянутым — и чем горячее были эти события, тем больше — в общественное движение. Правда, по своему социальному составу, по идейным устремлениям его членов Литфонд был очень разнороден: «…пестрое общество от Чернышевского до министра иностранных дел», — итожил свои впечатления от одного из собраний у Е. П. Ковалевского, председателя фонда, Никитенко. В этом-то обществе, став одним из активных его функционеров, Лавров — с его, казалось бы, неискоренимой склонностью к компромиссам и соглашениям — выступил ферментом, способствовавшим развитию центробежных тенденций. Отчасти это объяснялось укреплением его связей с деятелями радикального направления. За год, с февраля 1861 года по февраль 1862 года, Лавров по крайней мере на семи заседаниях комитета Литфонда встречается с Чернышевским. Вместе с тем все четче определяется и характер идейной направленности выступлений Лаврова. На этот счет имеется позднейшее свидетельство одного из руководителей Литфонда, В. П. Гаевского: «Сильное общественное движение, достигшее у нас наибольшего развития между 1860 и 1863 годами, не могло не коснуться Литературного фонда, естественно отражавшего на своем личном составе колебания общественной мысли, и выразилось в направлении, которое желал дать обществу П. Л. Лавров. Он проводил мысль, чтобы комитет при обсуждении прав на пособие принимал в соображение образ мыслей и направление писателя. Хотя эта мысль не разделялась большинством членов комитета, но она повлияла на охлаждение к Обществу многих его членов. Дружинин, всегда спокойно выслушивавший всякие мнения, насмешливо относился к такому взгляду, и говорил, что Лавров готов наградить всякого, кто обругает или побьет городового» (судя по некоторым данным, предложение Лаврова, о котором пишет мемуарист, относится к весне 1861 года).