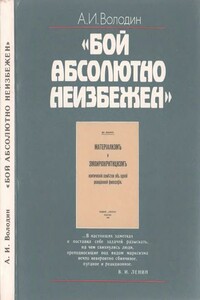Лавров | страница 30
Значительный по объему лавровский разбор учения Гегеля был в России не самым первым и, пожалуй, не самым глубоким. Работы А. И. Герцена 40-х годов, в особенности его «Письма об изучении природы», представляли собой куда более тонкий анализ гегелевской философии, прежде всего фундаментальной ее идеи, идеи тождества бытия и мышления, и притом в ее наиболее сложном, гносеологическом, теоретико-познавательном аспекте. Самое же интересное в лавровском подходе к Гегелю — это его рассуждения о том, как Гегель был приведен всем предшествующим развитием науки к идее о безусловном развитии всего сущего, и как он, с другой стороны, вопреки этому своему принципу, завершил историческое развитие, усмотрев воплощение мирового разума в прусском государстве.
Рассматривая учение Гегеля как такую философию, где научные положения и гипотезы приняли форму догматизма (что связано, по мнению Лаврова, с привнесением в науку чуждого ей принципа авторитета — начала всякого верования), Лавров отрицал диалектику в том виде, какой опа приняла в гегелевском учении: диалектический процесс, понимаемый немецким мыслителем как триадичное развитие (тезис — антитезис — синтез), Лавров по считает истинным и всеобщим. Тем не менее он видел великую заслугу Гегеля в том, что тот «внес во всемирное убеждение, под формою диалектического процесса, великое начало развития» и провозгласил необходимость для науки постоянно опираться на историю, рассматривая ее как «живой организм». Резче всего Лавров высказывался о консервативных моментах политического ученей Гегеля, о его мнении, будто власть «лучших и знающих» осуществляется в бюрократии, о его выступлениях против духа оппозиции и критики правительства. В этих рассуждениях Лаврова просвечивает его собственное критическое отношение к социально-политическому строю России.
Весной 1859 года Лавров публикует в «Библиотеке для что по я» (№ 4 и 5) продолжение «Гегелизма» — статью «Практическая философия Гегеля». Здесь еще более определенно выражены его политические симпатии и антипатии. Это не было случайным: расстановка идейно-политических сил в стране стала несколько более определенной. Яснее выявилась к этому времени и неспособность Александра II стать подлинно государственным человеком.
Передовое русское общество все нагляднее, хотя и небезболезненно, убеждается в том, что «обещания, раз данные, могут быть не исполнены, даже если они даны свыше» (слова Лаврова). Целый ряд акций верховной власти свидетельствовал о том, что самодержавный государь то и дело выступает если не игрушкой, то, во всяком случае, орудием «плантаторской партии», а точнее — бюрократической «камарильи», той придворной клики, которую герценовский «Колокол» назвал «черным кабинетом». Отдельные повороты в царской политике влево, в сторону либерального, более или менее удовлетворительного способа решения крестьянского вопроса (передача подготовки реформы из рук Главного, «плантаторского» по составу, комитета редакционным комиссиям во главе с Я. Н. Ростовцевым) лишь оттеняли отсутствие четкой программы осуществления социальных преобразований. Не только для идейных вождей революционной демократии — Чернышевского и Герцена, но и для многих «прогрессистов», жаждавших радикальных перемен, очевидными стали грубые проволочки в деле осуществления крестьянской реформы, колебания правительственной политики, слабовольность Александра II.