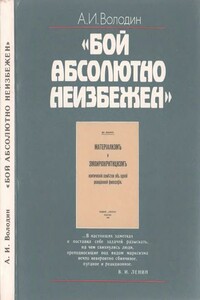Лавров | страница 21
После рассуждений о действенности в России политической поэзии, о том, что эта поэзия тем современнее, чем меньше автор «поэт кружка» (себя Лавров таковым не считает), Лавров начинает, по сути дела, полемику с Герценом: вы браните Петербург, а там есть «клок людей», не принадлежащих ни к «России Зимнего дворца», ни к «беззаботной машинальной России». «Клок» этот, состоит из разных людей, но все они сходятся в одном — в праве свободной мысли. В этом-то и заключается будущность России: «совестливое изучение и свободное мышление собирают материалы, из которых построится здание нашего будущего отечества, когда настанет минута, великая минута изменения, — а она придет, необходимо придет…»
Лавров не согласен со скептицизмом и пессимизмом герценовского «С того берега» — как можно отрицать, оспаривать «возможность прогресса, возможность закона необходимого улучшения»? Характеризуя основоначала своей собственной философии истории, своей «разумной религии», Лавров утверждает: мы не знаем, есть ли законы развития общества, доказать их наличие или отсутствие невозможно, но необходимо верить в «совершенствование человечества». Отсюда и отношение к вопросу о характере преобразований в России: «И я верю в возможность преобразования и совершенствования России, не страшным переворотом, который разрушит все существующее, чтоб дать вырасти новому, но примирением прошедшего с будущим, примирением, которое, конечно, будет иметь свои жертвы, свои потрясения, но не более другого исторического переворота. И когда в истории прошлое гибло безвозвратно?»
Голос Герцена Лавров расценивает как одну из сил, участвующих в процессе преобразования России. Но эта сила не единственная. Правда, о других силах судить трудно: этому мешает отсутствие в стране публичности, отсутствие «замечательных личностей, около которых можно было бы сгруппироваться», незнание средств и потребностей общественной жизни.
Главная проблема русской действительности — это, конечно, освобождение крестьян. Эта мера необходима, но все дело в том, как ее осуществить. Правительственные чиновники не имеют об этом понятия. Помещики, большею частью сознающие, как считает Лавров, необходимость ликвидации крепостной зависимости, тоже не знают, что делать конкретно. Да и вы, обращается Лавров к Герцену, лишь «провозглашаете начало, предоставляя чернорабочим найти средства его применения». Но тут-то как раз «встречается множество затруднений». Одно из них — возможность внезапного разорения мелкого дворянства, что, по Лаврову, нежелательно. Да и не в том только дело, чтоб крестьянин был не крепостной, а в том, «чтоб он был точно свободен»…