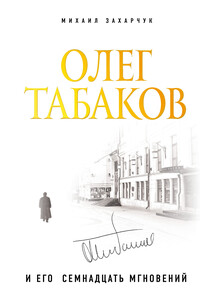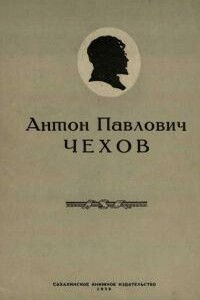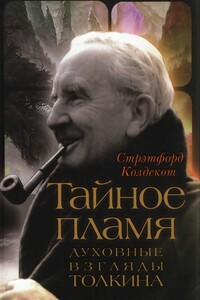Сентиментальный марш. Шестидесятники | страница 40
(Хотя и по манерам, и по образу жизни Высоцкий куда ближе Окуджавы к тому самому народу, – просто у Окуджавы зазор между героем и автором иногда исчезает, как в песне «Ах, война, она не год еще протянет» или в «Романсе кавалергарда». Удивительно, что Окуджава выстроил свой миф гораздо убедительнее: для большинства слушателей оказалось шоком, что он почти не воевал; образ окопного ветерана, старого солдата сросся с его обликом, а о подлинной своей войне он рассказал только Юрию Росту во второй половине восьмидесятых. Заметим, что большинство авторских мифологем Окуджавы – арбатское проживание, окопный опыт, кавказский характер – отлично прижилось, даром что с реальностью соотносилось весьма приблизительно, – тогда как поверить в лагерный либо фронтовой опыт Высоцкого мог только завсегдатай шалмана, где такие истории обычно и рассказывались.)
«Банька», если уж на то пошло, стилизована скорее под Некрасова, под «Меж высоких хлебов затерялося», – и то построена гораздо изощреннее, почему в строгом смысле и не ушла в фольклор: фольклорно то, что легко примеривается на себя, а у Высоцкого герой всегда обрисован гротескно, ярко, без особенного лиризма. Его монологи приятно произносить вслух – «Беня говорит смачно», – но в них невозможно поместиться с личным опытом: тесно от слов и реалий, ножа не всунешь. И уж, конечно, лагерник, – если только он не интеллигент, загремевший по 58-й, – не споет о себе: «И хлещу я березовым веничком по наследию мрачных времен».
Проблема, однако, в том, что упомянутый зазор весьма велик не только в стилизаторских, иронических, блатных песнях Высоцкого, а и в тех его лирических монологах, которые он произносил как будто от первого лица. Он вынужденно переносил стратегию ролевого поведения и на ту сферу, где раздвоение (в его случае – и растроение) личности катастрофически противопоказано. Что сделаешь, это особенность дарования, роднящая Высоцкого с его народом, обеспечившая любовь этого самого народа, но и послужившая источником вечного внутреннего разлада. То, что это осознавалось как трагедия, подтверждается гипертрофированным, болезненным вниманием Высоцкого к теме двойничества, – и тут вспоминаются не только иронические сочинения вроде «И вкусы и запросы мои странны», но и вполне серьезные тексты вроде «Мой черный человек в костюме сером». То, что «черный человек» в русской традиции – двойник, в доказательствах не нуждается (хотя весьма интересно было бы с этой точки зрения осмыслить моцартовского «черного человека»: ведь тот, кто заказывает «Реквием», может быть и пророческой, всезнающей ипостасью души самого художника, – хотя в реальности «Реквием» был заказан графом Вальзегом, обычным плагиатором, скупавшим чужие сочинения и выдававшим их за свои).