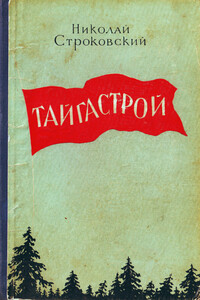Мы были мальчишками | страница 19
9
Солнечный день сияет по-прежнему, но ничто меня уже не радует. Обычно выйдешь на наше высокое крыльцо, посмотришь вокруг и столько увидишь, что иногда оторопь берет. На что ни взглянешь, все неповторимо, все радует глаз, будоражит сердце — и жирно разросшаяся лебеда с глянцевитой листвой, и громкий суматошный крик воробьев в зелени клена, перебросившего свои тяжелые ветви через забор, даже выложенная из красного кирпича глухая стена двухэтажного дома, в котором живут Валька Шпик и дядя Вася Постников. Утром, когда солнце только выкатится из-за горы, огромное и алое, эта стена заливается его лучами и становится ярко-красной до пламенности, в обед она как будто линяет, начинает темнеть и теряет яркость, а вечером, погруженная в тень, становится коричневой, сумрачной и таинственной.
Сейчас же в глаза бросается совсем-совсем другое. Все пыльно, серо, скучно. Замечаешь всякий хлам, разбросанный по двору, даже помойную яму с ее нечистотами и смрадом; листья на клене, оказывается, не совсем зеленые, а с желтизной; красная кирпичная стена — это просто стена с грязными потеками, со следами давно обвалившейся штукатурки, вся она исполосована тонкими трещинами, изрыта, словно оспинами, углублениями от выкрошившихся кирпичей. Не радует и солнце — жарко! И небо, на котором бессильно остановились сквозные облачка, горячее, как раскаленная сковородка, покрытая голубой эмалью… И тяжело на сердце, непонятно, томительно, как будто нужно было что-то обязательно сделать, а не сделал, забыл и теперь вспоминаешь, что забыл сделать, и никак не вспомнишь…
У входа в дом Валька останавливается.
— Я не пойду.
— Почему?
— Не хочу. Лучше в другой раз.
— Но почему? — настаиваю я. — Боишься ты, что ли?
— Чего бояться? Просто не хочу… Неудобно как-то… Может, он отдыхает с дороги или еще что, а мы вопремся.
Меня начинает разбирать злость. И вообще этот Шпик совершенно непонятная личность: то он постоянно вертится возле взрослых — за уши не оттянешь, то заартачится вот так, и ничего с ним не сделаешь.
— Ну и катись на все четыре стороны, — отрубаю я. — Тоже мне друг…
У Вальки дрогнули губы. Понурив голову, он идет по двору, и вся его фигурка — неповоротливая, кургузая, выражает обиду и горькое недоумение.
По деревянной, выкрашенной желтой масляной краской лестнице я поднимаюсь на второй этаж. Ступени под ногами тонко попискивают, словно им больно оттого, что на них наступают, а сердце у меня в груди колотится так, что в ушах отдается, и во рту почему-то пересохло.