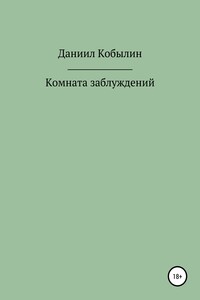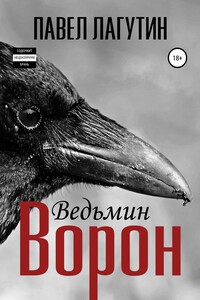Биение сердец | страница 42
П. как будто потерял в суете прощания с прошлым всё, что связывало его с Амали. Он подумал о «их миссии». Кто бы это мог быть – мальчик, или девочка? Он представил, как утешает Амали, представил её такой, как в первые дни их любви – желанной, самой прекрасной на свете, доброй и ласковой. Представил, что она, наверное, относилась к нему с почти материнской заботой, словно гладила своей теплокровной рукой его сметенную душу, так тихий огонёк молитвы успокаивает страждущего. В чём же она виновата, такая чистая, словно икона? На одном из ранних свиданий, Амали обратила внимание на то, что у П. расстегнулась и отлетела запонка и стала бережно застёгивать её своими аккуратными пальчиками, улыбаясь при этом. П. всё больше воспарял в этих мыслях, они были приятны, как гармоничное звучание многоголосного хора, он с блаженством восходил на следующую ступень духовного экстаза. Он вспоминает месяц май, юную зелень и Амали в платьице, которое он томительно переживал в своих снах, столь прекрасных, что, казалось, сердце останавливается. Призрачно далёкая, туманная мысль П. уносилась куда-то в детство, в смутные его образы. Всё причудливо соединялось в общем кружении. Амали – женственная стихийная в своих порывах и, в то же время беззащитная, её новое платье, из-под которого красуются обнажённые ноги, так просто, ни капли не вульгарно, как у школьницы, которая не осознаёт, что скоро станет женщиной и эти ножки станут её оружием, охотничьим копьём. Теперь П. понимал, что его Господь посылал эти счастливые мгновенья, как утешение, что все наслаждения молодости для него сводились лишь к одной странной форме мучительного томления, которое теперь, почему-то приятно вспоминать, как воздействие притупляющего боль наркотика.
То, что было истинно, что медленно, но верно приближало его к конечной цели, осталось позади, в тех днях. Как сквозь пальцы вода, из его жизни уходило всё наивное, доверчивое завтрашнему солнцу. Старик Северо рисовал ему другую жизнь. Эти картинки сплетались из его туманных фраз, странных жестов, из описаний виденного всюду, таких ни на что не похожих описаний; из книг и музык, которые он то мурлыкал, то рокотал глухим басом; из его непослушной седой копны волос, пропахших табаком и вином. С Сильвестро господин П. верно шёл к конечной цели, и она была очевидно не достижима в посюстороннем мире; она проглядывала, как райская поляна сквозь сухие скрюченные ветви, в изгибах тонких мелодических линий мазурок Скрябина, шершаво звучащих со старой пластинки в мастерской скульптора, просматривалась в репродукциях полотен Босха, Брейгеля, Левитана и Айвазовского, начала отдалённо раскатываться в апокалиптических зовах меди Реквиема Верди. П. всё больше хотелось слиться с проявлениями творящего духа, прожить каждый отдельный голос в хорах Генделя и квартетах Бетховена. И тут, как острая пика, прорвались в памяти первые звуки «Большой фуги» Бетховена, которую он впервые услышал с мансарды Сильвестро ранним утром. Пронзительная малая децима ре минора ударяла в виски, как приближение дула револьвера, заставляла зажмурить глаза, съёжиться всему нутру и затихнуть на обрыве скалы, схватиться за край, как за последний миг жизни, зависнув над глубокой пропастью. Эта пика Бетховена нещадно колола всё удобное, спокойное, что было в прошлом господина П. Почему-то эта истерзанная децима ненавидела в нём Амали, императивно желая расщепить её, заполнить всё пространство внутреннего мира одиночеством, глухим, сумрачным, но правдивым, как хлёсткий холодный ливень, пробивающий землю.