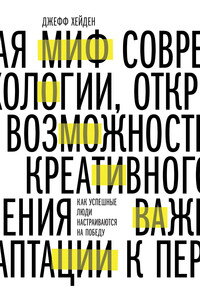Информация и человек | страница 132
Недоумение Солженицына, по сути, сводится к простому вопросу: «Почему я, неоднократно доказавший на деле свою храбрость в боях с куда как грозным противником, – фашисткой ордой, – вдруг спасовал перед какой-то кучкой уголовников?» И это недоумение является вполне естественным, если понятия «хорошего» и «плохого» рассматривать как что-то абсолютное, не меняющее своего значения ни при каких условиях. Действительно, что ему мешает совершить «хороший» поступок («терзануть» кого-нибудь из этих подонков «розовой мордой о черный асфальт»)? Конечно, за это и убить могут, но смерти-то он не боится (на минные поля ходил, «совался в прямую бомбежку» и т.п.).
Обратим внимание на один важный нюанс: Солженицын пишет не о трусости (трусость в отдельные моменты может проявить даже самый храбрый человек, и в этом нет ничего удивительного), а о каком-то непонятном ощущении, которое как бы указывает, что проявление храбрости в данных условиях вовсе не является чем-то хорошим. Но почему?
Просто Солженицын, оценивая свои поступки, как-то не придал значения той великой силе, которая была на его стороне на полях сражений и которая исчезла, как только он оказался среди уголовников. На фронте он рисковал жизнью в борьбе за Родину, а в тюрьме – за собственные вещи. В каком случае у него больше потенциальных сторонников?
И уж никак нельзя забывать, что гибель в борьбе за Родину всегда и всеми воспринимается как геройство, даже если человек при этом погибает по собственной оплошности или недомыслию. Гибель же в стычке с уголовниками будет расценена большинством, в лучшем случае, как какая-то нелепость, а скорее всего, – вообще глупость (не лезь на рожон, будь похитрее с этой публикой). Проще говоря, если бы Солженицын в этой ситуации стал отважно сопротивляться уголовникам (то есть, поплатился бы жизнью не за интересы большинства, а за собственные вещи), то этот его поступок был бы воспринят большинством как «плохой». Впрочем, если представить себе фантастическую ситуацию, когда он, подобно герою кинобоевика, раскидал бы эти «жестокие гадкие хари» по углам (то есть проявил бы силу), то такой поступок однозначно трактовался бы как «хороший». Но, говоря словами Оскара Уайльда, «когда Добро бессильно, оно – Зло».
Рассуждая про «какое-то дополнительное сознание», которое «на фронте укрепляет нас», Солженицын, фактически, говорит о том, что человеку очень важно осознавать свою принадлежность к интересам большинства, то есть к какой-то «большой силе». «Из двух человек одинаковой силы сильнее тот, кто прав», – утверждал Пифагор. (Он, помимо всего прочего, был прекрасным кулачным бойцом, и про силу знал не понаслышке.) Здесь тоже, очевидно, говорится о значимости осознания своей принадлежности к «большой силе», ведь правота это категория, одобряемая большинством.