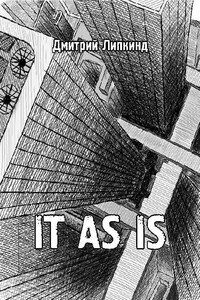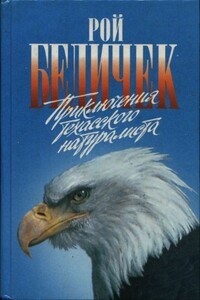Нагой человек без поклажи | страница 26
Постоянное присутствие Берла и его непосредственное участие во всем, что происходило со мной на архипелаге, несколько разнилось с тем, что мне про него поначалу рассказывали. И тем более лестным становилось осознание – он ни с кем прежде не носился так, как со мной. Пожалуй, если бы не он, я взвыл бы от холода, темноты и однообразия в первые же полгода. Но мне – или мне стоит сказать, нам? – удалось продержаться почти все двадцать четыре месяца на удивление бодро. А мне не раз приходилось слышать, что таким деятельным и в таком добром расположении духа Берл бывал крайне редко.
И я говорю, что нам удалось не падать духом «почти» все двадцать четыре месяца из моей командировки на Крайний Север, потому что в последний месяц перед моим отъездом все разладилось.
Бывали дни, когда Берл подолгу не возвращался в нашу комнату в общежитии. Такие дни бывали и прежде, и если поначалу меня это удивляло и волновало, то со временем я привык – и продолжал верно ждать возвращения Берла, прежде чем заснуть самому. Но если прежде такое происходило относительно редко, то в последний месяц это случалось с завидной частотой. И чем неумолимо ближе становился день моего отъезда, тем меньше Берл становился похож сам на себя.
Я лежал на спине, отчетливо чувствуя спиной металлические трубки, составлявшие скелет моей допотопной раскладушки. Подушка под головой сплющилась, но приподняться, чтобы ее взбить и лечь повыше, не было сил. Сцепив руки на груди, я вглядывался в темный потолок, восстанавливая по памяти узор трещин, и прислушивался к мерному дыханию своих соседей. Время от времени Лева начинал беспокойно ворочаться, и тогда кровать натужно скрипела под его большим тяжелым телом. Во сне он что-то бормотал и неизменно жалобно звал маму. Хотя он и был родом с Донбасса, в его голосе порой проскальзывали истинно одесские интонации, а его бессознательная тяга к матери вызывала в моей голове кучу нехороших ассоциаций и плоских шуток про евреев и их любовь к маменьке. Сам я по собственной матери не слишком скучал, и потому Левино трепетное отношение (вы бы слышали, как он с ней по телефону разговаривал!) вызывало во мне нечто среднее между умилением и комплексом плохого сына.
От размышлений о матери и смутно-беспокойного ожидания семейного застолья в Омске, куда обязательно придется ехать по возвращении, чтобы отпраздновать и ответить на все вопросы про север – и почему все обязательно нужно праздновать? – меня отвлекли странные звуки. Мои электронные часы показывали без двенадцати минут пять утра, а по длинному и узкому коридору общежития, больше похожему на каменную кишку, метался неясный шум. Когда я услышал что-то походившее на человеческий голос, то подскочил словно ошпаренный, кое-как влез босыми ногами в свои зимние ботинки и выскочил за дверь комнаты.