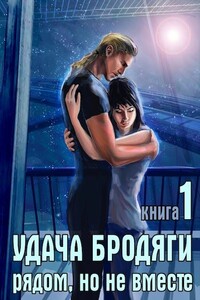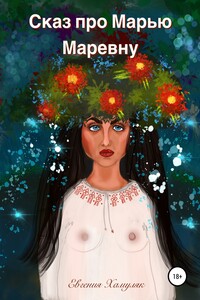Ивана Купала | страница 63
Роман Викторович сделал несколько фотографий на мобильный и сел обратно в машину. Отправил снимки помощнику с поручением к понедельнику собрать всю информацию по порту Тамань.
– Куда теперь?
– В Анапу, но давай через станицу проедем, там есть где пообедать?
– В принципе есть, но я бы предложил вам хороший рыбный ресторанчик в Сенном. Проедем через Тамань и дальше по регионалке, немного дольше выйдет, минут на 20-30 максимум.
Путь от пушки до танка Т-34, установленного на центральной площади станицы в память героев Великой Отечественной, занял чуть больше 10 минут. Лермонтов когда-то устами Печорина назвал Тамань «самым скверным городишкой из всех приморских городов России», но потомков таманцев это отнюдь не смутило, и они открыли дом-музей в его честь.
– Чем здесь сейчас живут? Работа есть? – поинтересовался Роман Викторович у Геннадия.
– В основном на виноградниках работа, летом сдают дома, в порту тоже. Когда мост строили, станица, конечно, поднялась, даже несколько гостиниц построили, но потом как обычно стало. Кто сюда приезжал на отдых, тот и приезжает, а новых отдыхающих не так уж и много. Та же Керчь – она теперь в 30 минутах на машине, все-таки город, цивилизация, а тут деревня как была, так и осталась.
– Тмутаракань.
– Что?
– Тмутаракань – средневековая крепость здесь была, в Тамани. Потом так стали говорить про глухую провинцию.
– А, ну может.
– Порт много рабочих мест даёт?
– Не знаю, врать не буду. Я, когда зерно возил, в порту местных часто встречал, разнорабочие обычно. Один знакомый был из Новороссийска, но он начальником, мотался каждый день – два часа туда, два обратно. В Новороссийске конкуренция большая в порту, там под своих жирные места держат. После открытия моста из Керчи стали в Тамань ездить в порт. Там же под санкциями порты, в Керчи, на ладан дышат, вот они сюда и ездят.
Проехав по улице Карла Маркса через всю станицу, машина выехала из Тамани и двинулась вдоль Таманского залива по Краснодарскому шоссе, которое на деле представляло собой 2-полосную региональную дорогу. В станице Сенной они остановились у ресторана, где Роман Викторович заказал уху и барабульку. Обед вышел приличным. Такую рыбу отыскать в Москве было не так просто. Вернувшись в машину, Роман Викторович погрузился в чтение отчётов, иногда отвлекаясь на мелькавшие в окне виды южный полей.
За следующий год он рассчитывал реализовать проект по созданию своего флота сухогрузов. Пока речь шла о судах класса «река – море» дедвейтом 3-5 тысяч тонн. Они нужны были для работы на мелкой воде – перевозке зерна по Дону к Азову и до Чёрного моря. На первом этапе он ставил цель на 25 сухогрузов – часть покупкой, часть – строительством. Конкуренция на зерновом рынке год от года росла. И выигрывать её могли только те, у кого были собственные логистические мощности: терминалы с доступом к воде, вагоны, сухогрузы – так, чтобы под контролем была вся цепочка – от скупки зерна у производителей до отгрузки конечному покупателю. С расширением бизнеса на глубокой воде можно было подумать и о флоте с большим дедвейтом.