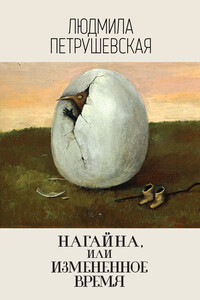В плену у свободы | страница 17
Лампы в палатке как-то сами собой притухли, а пирушка почти закономерно переродилась в очередную Ночь историй.
Первый рассказчик занял место у единственного фонаря и, под аккомпанемент нескончаемой грозы затянул что-то тихое и проникновенное. Осмелевший от горячащего кровь пойла, Бес, воспользовавшись моментом, приземлился на матрац Четвёртой и сунул в руки ей, ошалевшей от подобной наглости, кружку.
– Не смотри волком, мелкая. На самом деле ты рада видеть меня живым, я ведь чую. А злишься ты не на меня, а на ситуацию в целом. Всю жизнь нам твердили, что мы уроды, что нам место в клетке, что дай нам волю, мы зубами перегрызём глотки всем мирным и здоровым людям. Нам твердили, что мы больны. Что нам делают одолжение, не усыпляя, как больных чумкой собак. Но больны, на самом деле, они. Раз позволяют сажать своих детей в клетки, раз вкалывают себе эту отраву, выжигающую всё человеческое, превращающую их в послушное стадо. Раз усыпляют тех, на кого препараты не действуют совсем, – на последних словах Бес запнулся и Четвёртая поняла, что речь сейчас пойдёт о Тринадцатой. Эта рана на его душе до сих пор кровоточила, но продолжал говорить, несмотря на сочащуюся в голосе боль. – Нет никаких психушек. Тех, кого нельзя держать под препаратами, кого не сломала муштра на Базе, кого не убило в стычках с кочевниками, просто усыпляют. Именно, как собак. Укол и в крематорий. Ни суда, ни следствия. Одно решение врачебной комиссии.
Тринадцатая была особенной. Яркой и самобытной. Такое пламя на приглушить, не спрятать. Его можно только потушить. Что они и сделали. И меня пустили бы в расход, не сигани я с перепугу через ограду.
Сейчас ты мне не веришь. Твердишь себе, что мы оба предатели, подвели приютившую нас Базу, покусали кормившую руку.
Я не прошу поверить, просто слушай. Ты ведь не думаешь, что они станут придумывать все эти истории, чтобы сбить с пути истинного одну маленькую тебя?
Четвёртая молча кивнула, хлебнула из принесённого Бесом стакана и поморщилась от непривычной, спрятанной во фруктовом привкусе вязкой горечи. В голове зашумело, тело налилось горячей сонливой вялостью и Четвёртая, прикрыв глаза, прислушалась к очередному оратору.
В роли рассказчика выступал Молох. Нечастый гость прифонарного пятачка света. Оратором Молох, в отличие от своей буйной говорливой половины, был плохоньким. Он то говорил ломанными сухими фразами, то ударялся в неоправданное словоблудие, практически не менял интонаций и не повышал голоса, сбивался, порой, с середины фразы и замолкал на долгие секунды, словно погружаясь в какие-то свои внутренние переживания. Молох не сочинял, он пересказывал что-то знакомое, на тысячу раз обмусоленное в голове, сложенное по кускам, разобранное по косточкам и собранное воедино вновь.