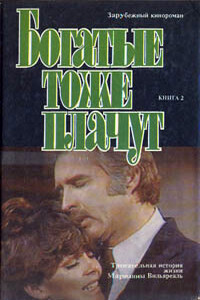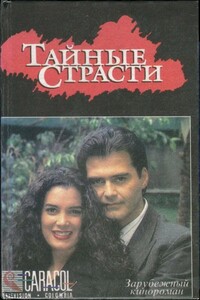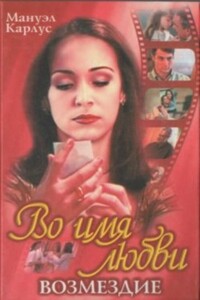Эдера 2 | страница 10
Любой уважающий себя человек на месте дель Веспиньяни уже давно бы дал понять своему личному секретарю, что не нуждается в его квалифицированных услугах, однако после очередного скандала Отторино лишь недовольно морщился и, барабаня пальцами по столу, говорил: «В последний раз тебя прощаю, Джузеппе, в последний раз...», на что тот, приседая от вежливости и переизбытка благодарности, бормотал: «В последний раз со мной такое случается, синьор дель Веспиньяни... Больше не буду — клянусь Мадонной!..»
Однако в последнее время дель Веспиньяни все чаще и чаще ловил себя на мысли, что общество Джузеппе становится ему неприятным — и не только из-за того, что Росси всем своим видом напоминал о многочисленных приключениях, в которых он был главным действующим лицом, но и потому, что для графа Росси представлял собой, так сказать, мелочность и суетность в чистом виде.
Однако в то утро, находясь под впечатлением от невеселых ночных воспоминаний, Отторино, кивнул своему секретарю, не отослал его вниз, с палубы под каким-нибудь предлогом, а задумчиво произнес:
— Сегодня будет качка...
— И не говорите, синьор, — сразу же подхватил секретарь,— я сегодня посмотрел на барометр... Боюсь, чтобы не штормило...
Достав из массивного золотого портсигара с бриллиантовой монограммой сигарету, Отторино закурил и, бросив спичку за борт, произнес со вздохом, обращаясь скорее не к Джузеппе, а к самому себе:
— Да, волнение на море...— он глубоко затянулся,— когда я был молод, мне всегда казалось, что это так романтично. Никогда не забуду, как мы когда-то путешествовали с Сильвией — ты ведь помнишь ее?
Росси едва заметно улыбнулся.
— О, конечно, конечно, я помню вашу жену, — и тут же добавил с напускной грустью, — как жаль, как жаль... Такая нелепая случайность...
Отторино, не глядя в сторону своего личного секретаря, продолжал тем же тоном:
— Когда мы поженились, она настояла, чтобы мы отправились в свадебное путешествие. Тогда у меня еще не было этой яхты, и мы поплыли в Ниццу на теплоходике... Да, никогда этого не забуду...— он сбил за борт сигаретный пепел.— Едва мы вышли в море, поднялся ветер и начался самый настоящий шторм. Наш небольшой пароходик начало качать с борта на борт, с носа на корму. Все пассажиры умирали от этой проклятой качки; одни умирали в салонах, третьи на коридорах. Да, путешествовать морем — замечательно, особенно, если у тебя много времени, часть из которого ты можешь потратить на дорогу, но морская болезнь, пожалуй — единственная неприятная сторона морского пути. — Отторино вздохнул, будто бы эти воспоминания вызывали в нем приступ морской болезни.— Помню, на верхней палубе, где умирали мы с Сильвией,— сказал он с грустной улыбкой и вздохнул,— был один такой маленький, такой юркий человек... Он ехал с огромной семьей и, наверное, один не терял присутствия духа. Он вытащил всю свою семью на палубу, вместе с подушками и одеялами. Семья была большая, человек из восьми, от старых: тещи и его мамы — до грудного младенца. Все они, кроме младенца, лежали покатом и стонущими голосами, в чисто южной, сочной итальянской манере ругали главу семьи... Он молчал, он никак не реагировал на эту ругань... Это было так трогательно — ведь и сам он мучался от этой проклятой морской болезни... Но держался этот человек просто героически. Помню, как только что-то приказала ему одна из толстых умирающих старух, он стремглав полетел к зигзагообразному трапу, просто мгновенно провалился в нутро парохода и, едва успев бросить семье какие-то шарфы и теплые платки, вихрем понесся к борту. Там он на несколько секунд прогнулся через боковой поручень в виде вопросительного знака и вновь заспешил к милой семье, встретившей его горькими упреками за то что он постоянно ее покидает. Затем его послали за лимоном, потом — за валерьянкой, потом — еще за каким-то лекарством. Затем он, как какой-то цирковой жонглер, прибежал, балансируя между людьми, с двумя рюмками коньяка, стараясь его не расплескать. Да, он был готов совсем забыть себя, если бы не эта всемогущая власть моря, которая ежеминутно и беспощадно напоминала о себе и все-таки не в силах была сокрушить железную волю этого пигмея... Я помню,— дель Веспиньяни бросил окурок за борт,— помню, что у этого человека было простое, доброе, веснушчатое лицо. И я тогда почему-то подумал, что он запросто бы бросился за борт, чтобы спасти неизвестного ему утопающего, в панической толпе сумел бы сохранить ребенка. Но всю свою жизнь этот маленький человек наверняка вынужден провести, подобно вьючному верблюду, с мозолями на всех сочленениях, питаясь чертополохом и бранью... Не знаю, но тогда, глядя на него, на этого кроткого и милого человека, я почему-то подумал, что будь я на его месте...