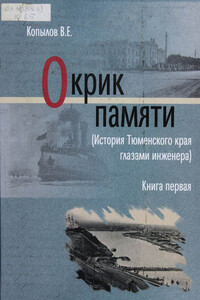По наклонной | страница 19
Дмитрий и Анатолий Шестаковы
Ловкач… неудачник?
Передо мной на столе лежат письма от читателей, пришедшие в ответ на мою публикацию в «Литературной газете». Их очень много. Инженеры, научные сотрудники, молодые специалисты и кандидаты наук откровенно и горячо пишут о своей профессиональной судьбе, о тех взаимоотношениях, которые сложились у них с выбранной специальностью. Картина типичная. Вот некоторые строки из писем: «Мой творческий потенциал оказался невостребованным», «Атмосфера многолетней развращающей бездеятельности, установившаяся в нашей лаборатории, лично меня, молодого специалиста, на трудовые подвиги не подвигала, а изменить ее я не мог», «Нет у инженера ни морального, ни материального стимула трудиться лучше», «От былого престижа инженера осталось одно воспоминание», «Потратив шесть лет в вузе на то, чтобы освоить свою специальность, я теперь оказался перед фактом, что не могу элементарно обеспечить свою семью: жену и двоих маленьких детей». А инженер Ф. П. Тютюнник из г. Сумы вообще считает, что «технари — это самая беззащитная категория работников». Горькие, горькие слова.
Среди авторов писем немало и таких, кто расстался со своей профессией, устроился дворником, грузчиком, мастером по ремонту телевизоров или продавцом овощей (выгодно!). В основном это молодые люди. И мы не можем не признать, что отток инженерно-технических работников в сферу обслуживания, где всегда есть надежда на неофициальный «приварок» к зарплате, — не просто единичный случай, а социальное явление. Молодой научный сотрудник из Ленинграда, по вполне понятным причинам не назвавший своей фамилии, не без едкой иронии пишет, что, с тех пор как открыл свой маленький бизнес (торговля фирменной звукозаписывающей аппаратурой), почувствовал себя «полноценным человеком».
А вот еще штрих к злободневному вопросу о нетрудовых доходах. Пожилой профессор спросил у своего нерадивого студента: «Зачем вы, голубчик, учитесь? Профессия инженера вам явно не по душе, зарплата будет небольшой…» На что юный муж, тонко улыбнувшись, заметил: «Зарплата будет небольшой, зато и делать ничего не надо». Но если строго: зарплата в конце месяца за ничегонеделание — это тоже нетрудовой доход. Выходит, можно получать деньги ни за что и оставаться при этом как бы честным человеком (под суд-то не отдадут, во всяком случае). Нравственные нормы размываются, теряют свою упругость, особенно в глазах молодых, еще не окрепших людей, только начавших свою трудовую взрослую жизнь. Социологи подтверждают: да, падают среди молодежи ценности труда и трудового образа жизни, на которых человек спокон веку держался, да, центр интересов перемещается из сферы общественно-производственной во внепроизводственную (бытовую, досуговую, покупательскую и пр.), а значение денег как средства получения удовольствий неуклонно растет. Есть такая тревожная тенденция. Но не из вакуума же она возникла, эта тенденция, что-то же питает ее?