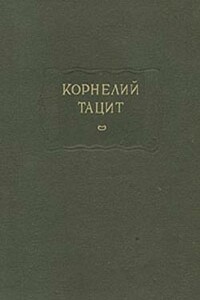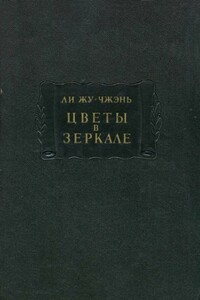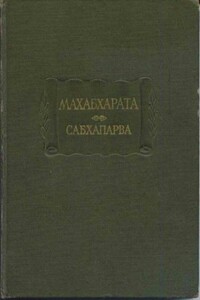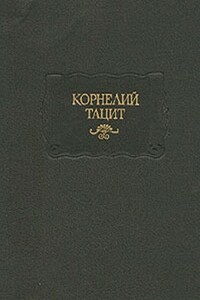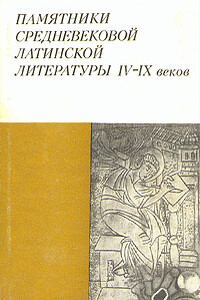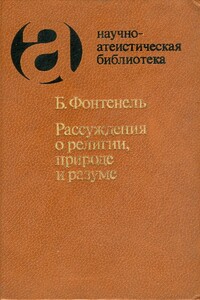Садик. О названиях, знаках зодиака, культурах и климатических свойствах двенадцати месяцев. Лапидарий | страница 70
Еще одним “побудителем” Валафрида к созданию “Садика” считали[412] 10-ю книгу сочинения Колумеллы “О сельском хозяйстве”, имевшую знаменательный заголовок: “De cultura nortorum” (“О культуре садов”).
Возможным “побудителем” Валафрида к созданию им “Садика” могла стать и сама тема сада, уходящая корнями в глубокую древность, но бывшая также и повседневной реальностью для “садовода” из Рейхенау. О садах говорилось так давно и так много!
“Чародейные травы” в легендарном колхидском саду собирала еще волшебница Медея (“Орфическая Аргонавтика” IV-V вв.). Известен исторически существовавший сад Феофраста (IV в. до н.э.), афинского философа, естествоиспытателя и ботаника. Пергамский царь Аттал Филометор (II в. до н.э.) и властитель Понта Митридат VI Евпатор (ок. 132-65 гг. до н.э.), как восточные деспоты, увлекались разведением растений-ядов и противоядий. В далекой Армении еще в I в. до н.э. близ города Артамета существовал сад Арташеса II “из различных цветистых благовонных растений, но не только ради приятных зрительных удовольствий... а и для приготовления из них лекарств, изобретенных любознательными врачами согласно учению Асклепиада”[413].
В VI в. н.э. уроженец Северной Африки поэт Луксорий написал стихотворение “Об Оагеевом саде, где были посажены все лекарственные травы”:
(Пер. Ю.Ф. Шульца)
Что касается Руси, то еще в Киевский период ее истории там проявляли живой интерес к лекарственной ботанике, знали сочинения Феофраста[414], а в известном еще с XI в. “Шестодневе” Иоанна Экзарха Болгарского сведения о растениях и лекарственных средствах передавались по Диоскориду и Феофилу[415].
В историях средневековой литературы[416] источники Валафрида делят обычно на три группы: народная традиция, античные авторы и собственный практический опыт (вспомним ст. 15-18 “Садика”).
Мы не знаем, как оценили современники поэму “Садик”, но известно, что Страбон пользовался всеобщим уважением именно как поэт и ученый, и обе эти ипостаси как раз и соединились в его поэме. Стихотворная эпитафия Валафриду, написанная Рабаном Мавром, рисует его мудрым наставником, искусным писателем и поэтом, на устах у которого была “сладостная соль”. Поэму переписывали, но, по-видимому, не часто. Она фигурирует всего в нескольких рукописях IX-XI вв., снабженная немецкими и латинскими глоссами.