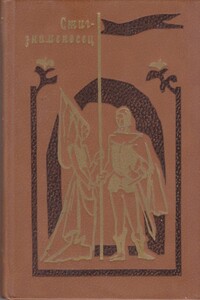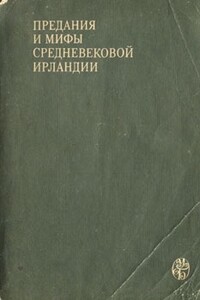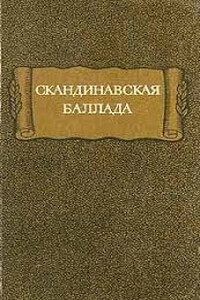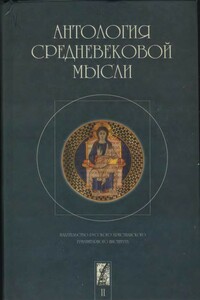Роман о семи мудрецах | страница 2
Как представляется, в кратко изложенном нами сюжете можно выделить по крайней мере два фабульных ядра. Одно из них можно было бы назвать «историей оклеветанного мачехой царевича», второе — «отсрочивающими рассказами мудрецов». Показательно, что в разных манифестациях интересующего нас сюжетного инварианта акцент делается на разные его элементы, что, между прочим, отразилось и в пестроте названий соответствующих произведений (иногда книга называется по имени воспитателя царевича и, тем самым, основного «мудреца», иногда — по имени царя, но чаще всего — просто «семь мудрецов»). Поэтому при изучении этого популярного сюжета нас должны занимать по меньшей мере три проблемы: возникновение и распространение — на уровне мифа, а потом и литературы — мотива женского любострастия и коварства и связанного с этим трагического столкновения отца с сыном (двух братьев, хозяина и гостя и т. д. ), сложение рассказов самого широкого дидактического диапазона (в котором постепенно начинают преобладать поучительные истории о женской неверности и об опасности поспешных решений), наконец, возникновение на этой основе уже достаточно сложного сюжетного построения в жанре так называемой «обрамленной повести».
Достаточно трудно, да и попросту невозможно определить, что же возникло раньше — история оклеветанного царевича или циклы дидактических рассказов антифеминистского свойства. Впрочем, вопрос этот праздный: ведь и рассказ о мачехе, соблазняющей приглянувшегося ей пасынка, также может быть отнесен к числу подобных поучительных историй.
Между тем основе будущей рамочной конструкции — «истории оклеветанного мачехой царевича» — принадлежит определенный приоритет. Нельзя не согласиться с П. А. Гринцером, наиболее глубоким исследователем индийской «обрамленной повести», когда он пишет, что «отдельные сборники „обрамленной повести“ по содержанию не представляют чего-то совершенно нового, и большинство отдельных рассказов, сюжетов и мотивов, имеющихся в них, или встречались в иных, более ранних по времени произведениях, или — и это особенно часто — восходят к устной народной поэзии и фольклору»[3]. Точно так же и «история семи мудрецов». Однако ее повествовательная рамка, которую мы можем назвать первоначальным ядром сюжета, соотносится с обрамляемыми ею рассказами иначе, чем в других многочисленных разновидностях «обрамленной повести». На особую роль этой рамки верно обратил внимание П. А. Гринцер. Он справедливо заметил, что «обрамление „Книги Синдбада“ содержит и некоторые принципиально новые черты. В нем, например, вместо одного рассказчика выступает уже несколько лиц (Синдбад, везиры, жена царя, наследник и др.), в то время как в санскритской „обрамленной повести“ все вставные рассказы, как правило, вложены в уста одного героя: Вишнушармана, Веталы, попугая. Появление нескольких рассказчиков в рамке „Книги Синдбада“ привело, в свою очередь, к новым конструктивным особенностям: тематическому противопоставлению рассказов (о коварстве мужчин и о коварстве женщин) и внутренней соотносительности числа вставных новелл (два рассказа везира и рассказ невольницы, снова два рассказа везира и снова рассказ невольницы и т. д. ), которые затем были использованы европейскими новеллистами»