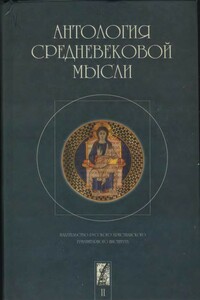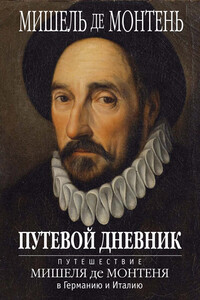Роман о семи мудрецах | страница 14
Таким образом, Нахшаби, как и его непосредственный предшественник, некий Имад ибн Мухаммад ан-Наири, создавший свое произведение в 1313—1316 гг.[43], был, видимо, знаком уже с двумя основными ветвями «истории семи мудрецов», получившими к началу XIV в. широкое распространение. Впрочем, вставные истории-притчи восходят к международному фольклорному фонду; их сюжеты встречаются в самых разных произведениях средневековых литератур Запада и Востока вплоть до французских фаблио. Эти истории-притчи могли кочевать из одного произведения в другое и становиться обособленными самостоятельными рассказами. Так что Нахшаби совсем не обязательно должен был быть знаком с «Синдбад-наме» аз-Захири.
Интересно отметить, что Нахшаби и ан-На’ири жили и творили в Индии, были знакомы с древнеиндийской литературой и многое черпали из нее, но в данном случае воспользовались прежде всего арабской и персидской литературными традициями.
Тут мы снова возвращаемся к проблеме индийского происхождения нашего сюжета. Б. Перри, как уже говорилось, такое происхождение отрицал. Он видел в основе многочисленных версий некое персидское произведение, первоначальные черты которого, по его мнению, лучше всего сохранились в «Джалиаде и Вирдхане» (тем самым эта повесть оказывается не подражанием, а моделью «Семи везиров» из «Тысячи и одной ночи»). Предполагал Б. Перри и возможность существования протооригинала, который он возводил к греческой басенной традиции (к очень популярному в первые века н. э. «Народному Эзопу»).
Точка зрения Б. Перри заслуживает, конечно, внимания. «Книга Синдбада» действительно могла возникнуть уже на персидской почве в пору становления литературы на фарси. Структура «обрамленной повести» была принесена из Индии. Что же касается басенной традиции (греческой или индийской), то явно не она легла в основу сюжетного инварианта «истории семи мудрецов». В противном случае сюжетные рамки (а следовательно, и параллели и аналогии) становятся достаточно неопределенными, едва ли уловимыми. Мудрецы в различнейших вариантах нашего сюжета играют, вне всякого сомнения, очень большую роль, но в центре сюжета все-таки находится оклеветанный царевич и лишь его рассказ оказывается решающим. Так или иначе, разные ближневосточные версии «истории семи мудрецов» уже в XII в. попали на Запад и породили там весьма интересные переработки.
Судьба «истории семи мудрецов» в литературах западного Средневековья не менее богата, многообразна и сложна. И если зависимость большинства западноевропейских обработок в конечном счете от одного из французских (через латинское посредство) прототипов не поддается сомнению и легко прослеживается