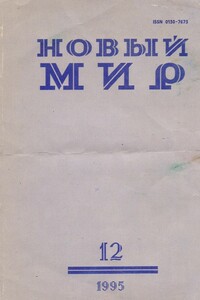Погода в ноябре | страница 2
Звонила Сашкина мама: оказывается, он лежит — или сидит? — в психушке на улице Бехтерева, с истощением нервной системы. Я начал одеваться.
Познакомились мы давно. Еще только начинал строиться Театр-студия на Усачевке. Несмотря на необустроенность, на то, что зачастую не было даже сидений в зале, спектакли все равно шли.
Однажды перед началом я пошел за кулисы — кажется, за какой-то бутафорской саблей. В проходе горела всего одна лампочка, и я наткнулся на нечто свисавшее — свисал здоровенный кожаный башмак с подковками на толстой подошве, — я дернул за него. Куча тряпья зашевелилась, из-за свернутого рулоном, пропахшего кошками половика показался клочкастый ежик волос, заспанное лицо приблизилось к лампе — та качнулась, беспокойно залетала пыль, — лицо чихнуло. Тряпки раздвинулись — заблестели пуговицы кавалерийской шинели.
— Что же вы ноги разбрасываете? — вглядывался я в незнакомца.
— Виноват: заснул, — извинился Сашка: это был он.
Теперь, когда лицо приблизилось, я смог рассмотреть его как следует: низкий лоб, глубоко, близко посаженные голубые, почти белесые глаза; прямой острый нос, широкие обветренные скулы, несокрушимая нижняя челюсть, выдающийся подбородок с завершающей его шишкой, а в ней глубокая ямочка — как он ее пробривает-то по утрам? Сашка широченно зевнул, обнажив белейшие крепкие зубы, закутался потеплее в шинель и уткнулся лбом в кирпичную стену. Честно говоря, первое впечатление было неприязненное.
Итак, жил Сашка в общежитии, где тоскливо пахло борщом, где из окна его подчердачной кельи виднелась изумительная по тоскливой своей достоверности картина: железнодорожные пути, складские помещения, задворки вокзала; кучи ржавеющего металла, запыленные люди в черной рабочей одежде, стрелочники, машинисты; и вдруг — дико! — рядом с невзрачной конторой, где работают девушки с грустными глазами, которые по вечерам несут в сетках протекающие пакеты молока, вдруг неизвестно откуда — пихта! и конечно же — кумачовый плакат и тут же гипсовая, крашенная золотым, статуя… Уродство это было так законченно, чуть ли не совершенно, что сердце мое ныло ностальгической болью, словно я принадлежу этому миру и насильно оторван от него, — и я готов был предложить руку и сердце любой грустной девушке с кефиром, взять ее под свою защиту и нарожать с ней кучу детей. Вот идет одна — и я высовываюсь из окна, идет она с авоськой, наверное, домой. Девушка заворачивает за угол, и пусть я уже не вижу ее, однако не упускаю. Что там? За углом? Дома, улица, девушка; она купит себе бессмертники. Улица и дома словно намалеваны дегтем; желтоватое небо сгущается к горизонту и рыжим мохнатым брюхом нависает над табачными крышами. Девушка с кефиром войдет в продуктовый магазин, отстоит очередь, уткнувшись в чьи-то мокрые драповые плечи, купит сыр. У себя, в неосвещенной комнате, она разденется — в неразборчивом зеркале отразится бледная неразвитая грудь, короткая стрижка, угловатое, как у мальчика, тело. После сядет на подоконник, упершись пятками в батарею, нальет кефиру в стакан, наверняка забудет вытереть кефирные усы, направится к постели, приостановится, обернется, чуть задержится взглядом на какой-то полузабытой смешной игрушке. Она поставит цветы у изголовья и ляжет в ломкую постель, и эта ночь не приблизит ее к старости…