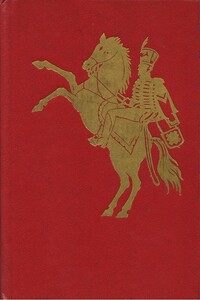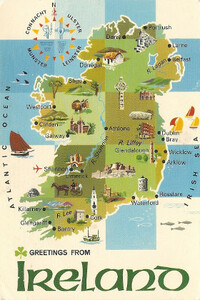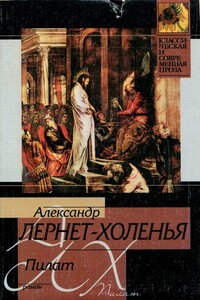А земля пребывает вовеки | страница 37
«1. Банка помады, запах – резеда. Волосы у голубки ничем не смазаны (взять у парикмахера Оливко).
2. Сардинки, банки три. (Худа очень Людмила, подкормить надо, и чтоб тётка не смела есть: исключительно для голубки.)
3. Отрез на платье. Шёлк. Розовый цвет. К Светлому дню. В тот же день и колечко с бирюзой. А тётке на «Христос воскресе» – подсолнухов», – и так далее.
Уезжая как-то в одну из своих экспедиций, он принёс им – на память – свой портрет в рамке из ракушек. На фотографии этой он был ужасен. Он поставил её рядом с портретом отца Милы, покойного генерала: «всему семейству на вечную память», – и Головины не смели убрать портрет.
Мать Милы, о которой и Попов знал, что больна, и, увидев, заключил: «не в себе», не присутствовала при его посещениях и, оберегаемая тётей, часто не знала об этих визитах. Дни она проводила с Димитрием, а Мила или Анна Валериановна по очереди сидели у двери наверх. В их отсутствие она сама сидела у двери с вязанием. Свяжет ряд и распустит, и снова свяжет и опять распустит. Она делала это машинально, не думая, творя неустанную внутреннюю молитву.
Мила заметно таяла от переживаемых ею волнений. Анна Валериановна видела, что немедленно надо что-то сделать, найти защиту у власть имущих. В поисках она посетила даже несколько митингов. Увы, там она не видела никого, кто был ей прежде знаком, кому она могла бы довериться, к кому обратиться. Как болезнь, как мания, как безумие – там всё еще говорили. Там обсуждались не наступающий голод, не эпидемия тифа, не рост преступлений, не то, что совсем остановилась железная дорога, не работала почта, со столицами не было сообщения, нет, – обсуждались радужные проекты светлого будущего, политические платформы, объединения и разъединения политических групп. И чем очевиднее становилось, что надвигается разруха, анархия, тем восторженнее звенели речи голодных фанатиков о близости мировых перемен. Они гипнотизировали толпу. Тем, кто не подпал под гипноз, жизнь казалась чудовищным, диким сном, и хотелось закричать и проснуться, понять, что это только почудилось, и успокоиться.
Но были же где-то настоящие люди, те, что делали революцию по какой-то своей программе. Не хаоса же, не всеобщей гибели они добивались, они совершали переворот для какого-то всё же устройства жизни.
И как ответ на это, донеслись вести о большевиках, об Октябрьской революции, о том, что «твёрдая власть» уже рождена в столице. И тут же неслись таинственные слухи о контрреволюции и о гражданской войне. Кое-кто вдруг замолк, кое-кто исчез, кое-кто собирался с силами для борьбы. Но те, кто правил городом, не изменились, хотя и замечали, что власть и влияние понемногу уплывали из их рук.