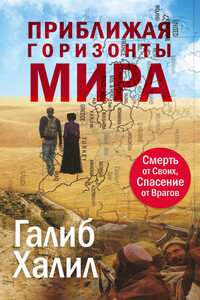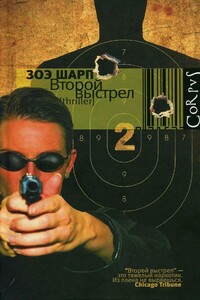Двадцать четыре | страница 3
Песня натыкалась на ледовые катыши, стеклянные растрескавшиеся льдины, колючей оторочкой собравшиеся вокруг плаца, на бетонные столбы с безобразным гнутьем арматуры, на обитую железом караулку и дрогнувший строй караульных.
Запасные из гражданской добровольщины, что с них взять – не сказать, чтоб крепкие, заерзали головами. Разгоряченные бьющими по сердцу тоскливыми и разудалыми струнами, они похватались за шапки, и кому куда рвала душа, поуткнулись задумчиво носами под ноги или упялились в небо, посбивав дембелями шапки на стылые затылки.
Все еще ютящийся на коленях Воронцов, виновато вздернув брови и склонив тоскливо голову чуть вперед да набок, стащил шапку, как на похоронах, безвольно свесил тощие руки, поднял до краев наполненные слезами глаза к Бурдюку и выдохнул как последнее:
– О-ох… Хорошо-то как… – он задрожал как приговоренный, отпустил слезы, и те с облегчением перелились, струйками побежав долу.
Одуревший и пыхтящий комом злости, таким большим, что и не сразу пролезшим через глотку, Бурдюк взвыл и наотмашь въехал нахалу в рожу. Вскочив и опрокинув табуретку, он круто развернулся к караулке:
– Вырубай! – раскатом грома проорал он оператору, стоящем у своей двери.
Но не перехрипеть ему было того пения, не перезвенеть той гитары. Оператор, видно тоже пьяный воющим навзрыд динамиком, широко расставив ноги, подпер спиной дверь операторской и дерзко покачал головой – не вырублю мол, хоть руби меня!
Зверем прыгнул к нему Дубинин, да с кулака, умел он! А нет, стоит оператор. Стоит и не гнется – бей еще, мол, а сам не уйду. И Дубинин бил, старался, хотя уж и бить-то было не по чем, уж и не было лица, а так только, растолченный в клок сочный помидор. Одни глаза белками все еще смотрят – не уйду! И жутко в них глядеть, и уже одышка и сбиты кулаки зубами. Не уходит, гад!
– Ты что? – тонкогласно дрогнул Воронцов за спиною Бурдюка: раздерганный песней Первый запыхтел морозным жаром и заскользил по розовому снегу к подъему на ноги, отпихивая плечом руку Воронцова – сам встану, сам поднимусь!
– Что-о? Лежать! – Бурдюк выставил пистолет на вытянутую, как лучник с натянутой струной из высушенной звериной нервы: – Лежать! Да что лежать? Стрелять гниду!
Но дерзкий и неожиданно крепкий удар Воронцова – тихого скромняги Воронцова, выбрызгивая из дрожащих Бурдюковых губ слюни и кровь, отбросил того назад, отбросил расхриставшиеся неуместно руки, отбросил пистолет, авторитет, и длинный путь наверх, на который ушло столько сил, и зубов, и столько лет. Бурдюк свалился на лед, задрав ноги.