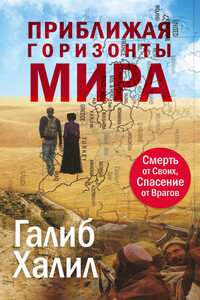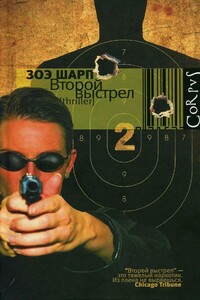Двадцать четыре | страница 2
Первый затрясся, от крови и синюшного холоду темный в сумерках, как араб, голым валяющийся на песке в своей пустыне. Да только то не песок.
– Лейтенант Перевенцев! – к заду одышавшегося Бурдюка подставили стул, зад грузно уселся, и Бурдюк, приклонившись вперед сколько позволяло брюхо, объявил приговор:
– За нарушение служебных полномочий… Рукоприкладство… К представителю власти… В лице… По закону времени приговорен к смерти! По ходатайству личного состава… приговор… заменен выморозкой… Где он должен был и остаться!
Чуть не до рвоты еще придавив живот, Бурдюков согнулся ближе, ближе к Первому:
– Что ж ты, заступничек? Что творишь? На-хре-на? – изжогой вырычал откуда-то из глубин чрева Бурдюк, презрительно не разжимая зубов.
– Пфф.. Р-рр.. – отозвался мертвым горлом Первый.
Воронцов тут же пал на коленки, чуть не по-матерински прильнул к Первому, обнял доброй и еще теплой меховиной рукавов его голову и ухом приноровился к сиплоте слов:
– Песню, говорит-т, – перевел он Бурдюку.
– Песню? – Бурдюк отпрямился, схмурил недоуменные брови, оглянулся на Дубину. Тот пожал плечами и махнул оператору, иди сюда, мол.
– Пс-тф… – собравшись, продолжил Первый, а уж после снова крупно затрясся как раздолбанный электрогенератор, которому смерть, но который все тарахтит, и – чтоб его! – работает.
– Поставь, – снова перевел Воронцов, кругло выпучив глаза и с сомнение повторил тихо сам себе: Поставь? Поставь… Песню поставь!
– Песню? – Бурдюк, скрипя шаткими ножками табуретки, как зубами, повернулся к оператору: – У нас что, музыка где-то есть? Нарушаем?
– Нашлась песня на тех хардах из последней партии, – оператор шагнул чуть вперед: – Он ее списал и слушал. А потом…
Бурдюк вернулся к Первому, снова приклонился чуть, уперся кулаком левой в пухлое колено, правую свесив пистолетом вниз.
– Так ты… – он оскалился подобием улыбки: – Ты песенки слушаешь и творишь тут? Да ты… Ну-ка, поставь ему на прощанье! Пусть все посмотрят, к чему она, эта музыка!
Оператор бегом ухрустел в караулку, отключил рвущуюся сирену, и динамик, вздохнув тишиной, зазвенел серебряным на морозе боем гитарных струн.
Строй шатнулся, караул мягкой волной колыхнуло в «Вольно!» и опустившиеся подбородки расслабили затекшие шеи.
Музыка непривычно заплакала в старой колонке, приятно растекаясь по снежным валунам, как первая стопочка холодненькой по венам, обходя караулку мягкими вывертами, расплываясь и растепляясь поверх мороза.
Запел мужской голос – не сказать, чтоб красивый. Скорей прокуренный, скорей пропитый, промороженный до связок, проживший голос, больной горячно, похмельный да запойный. Но твердый, не нарвись на такой.