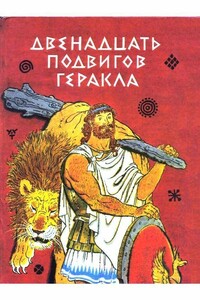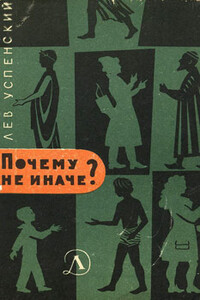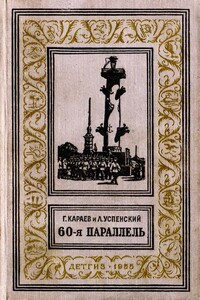Записки старого петербуржца | страница 70
Кто теперь, полвека спустя, помнит, кем был Дмитрий Никифорович Кайгородов, деловитый и влюбленный в свое дело предтеча современной нашей фенологии, упрямо сообщавший во всех газетах, не обращая внимания ни на восстания, ни на войны, о том, что "12 апреля был слышен первый свист скворца", а "5 мая лягушки в Институтском пруду начали икрометание". Над ним посмеивались, на него помещали безобидные карикатуры, а он наблюдал и писал. И если его теперь вспоминают только фенологи, если даже им он порою кажется наивным дилетантом, то – что поделаешь? Все мы – "конки" и "извозчики" на великом пути прогресса. Всем нам, работникам и науки и искусства, кроме разве уж звезд самой первой величины, всем нам приходится через полвека, через столетие выглядеть как нечто устарелое, как нечто давнопрошедшее, милое, но вроде как уже и не заслуживающее внимания.
А ведь это – несправедливо, и не к лицу изобретателю пятикубового экскаватора заноситься перед тем, кто когда-то вытесал из дерева первую лопату.
Очень трудно сказать, кто из них двоих ближе к гениальности и кому человечество – знай оно в лицо, по имени конструктора той лопаты или весла – с большим основанием водрузило бы памятник.
А впрочем, я, что называется, отвлекся. Буйный дух воспоминаний захватывает в свою власть семидесятилетнего человека, и они начинают ветвиться и шириться уже независимо от его воли, вызывая на свет когда-то не додуманные мысли, все то, что казалось и перестало казаться важным… Вернемся к теме.
С другой, Невской, паровой линией городских железных дорог меня связывают куда более поздние воспоминания, и я еще возвращусь к ним.
Тут все было по внешности точно таким же, как и там: такие же паровички, такие же вагончики; не берусь сказать, были ли среди них открытые летние платформы.
Могло и не быть: маршрут был "не тот". Там в конце зеленели два отличных парка – Лесной и Удельнинский, начинались дачные места… Как это ни странно звучит сейчас, а ведь не только лесковские "совместители" обделывали свои делишки на дачках в Лесном во дни министра Канкрина; в самый год революции у меня было несколько знакомых, выезжавших на лето именно туда и наслаждавшихся природой в радиусе километра от Круглого пруда. На такой линии и вагончики могли уже иметь дачно-пригородный вид.
Здесь же, как только паровозик сворачивал к Неве, оставляя лавру вправо, начинались строгие фабрично-заводские места. Непрерывная цепь предприятий тянулась, как и сейчас, вдоль левого берега Невы. Мельница Мордуха и Невский стеариновый, Фарфоровый заводы, и амбары Невской лавры (лавра тоже была своего рода весьма крупным предприятием), Невский механический и Судостроительный, Невский химический, Главные вагонные мастерские Николаевской дороги, Главные паровозные мастерские Александровского завода, бумагопрядильная и ткацкая фабрика Губбарда, такая же фабрика "Петровского товарищества"… Фабрики, фабрики, заводы… Высокие кирпичные заборы; проходные возле сурово закрытых ворот; металлические вывески на проволочных решетках над ними: здесь – "И. Ф. Губбард и К€", на той стороне реки – "Альфред-Перси Торнтон и Ко"… Двуглавый имперский орел – и компания. Да еще какая большая компания!