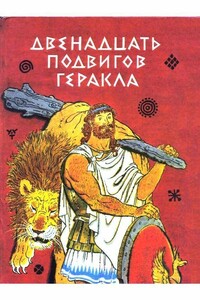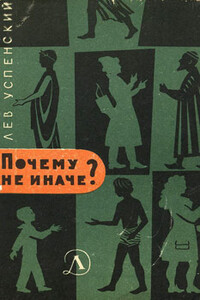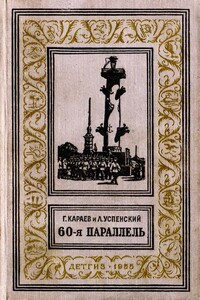Записки старого петербуржца | страница 69
Вагоны – коночного типа, некоторые – тоже с империалами; но были и открытые, летние. Вдоль этих на всю длину тянулись общие подножки; сиденья на платформах были расположены поперек; стенок не было, а входные проемы задергивались бело-синими занавесами, спускавшимися с крыши. На крышах и в открытых вагонах ездить было приятно, если вам, как мне тогда, в высшей степени безразличны копоть и искры, вылетавшие из короткой черной трубы на крыше коробки локомотива…
Вы садились в самом начале Сампсониевского и ехали по всей его длине – мимо Сампсониевской церкви, перед которой стоял маленький, как куколка, Петр Первый, мимо аптекарского магазина, где хозяйствовал папа Фимы Атласа, о котором я рассказывал во введении к этим запискам, мимо конфетной фабрики Георга Ландрина (теперешняя Первая конфетная), из окон которой всегда приторно пахло каким-то сиропом и сладким тестом… Потом он, пыхтя, поднимался в гору к Новосильцевской и круто сворачивал вправо, огибая парк Лесного института.
Это было очень интересно, потому что рельсы по узкой Новосильцевской, на ее левой стороне, были проложены у самого желтого каменного забора-стены, и он проходил в пугающей близости от глаз, как скалы на некоторых кавказских дорогах, и я всегда ожидал этого, в семь лет – волнующего, момента. А справа уже зеленели удивительные деревья, на каждом из которых висела табличка с надписью: "Даурская береза", "Клен широколистый", "Лиственница европейская", и это было еще удивительней, ибо я всю жизнь любил, когда мне что-нибудь объясняют. А внизу, в молодой траве, – мы ездили туда чаще всего весной – уже лиловели нежные кисточки хохлаток, солнечно золотились веселые цветки гусиного лука, а кое-где можно было уже разыскать и наивно-синюю печеночницу, которую завтра будут продавать на Невском, называя "подснежником", и чисто-белые чашечки диких, милых анемон-ветрениц…
И вот мы слезаем и проходим в парк, сквозь калиточки, охраняемые только красно-коричневыми крестовниками деревянных турникетов (и я узнаю это слово!), и огибаем белые корпуса института (а я представления не имею, что буду двадцать лет спустя слушать тут Сукачева, Холодковского, Римского, сдавать систематику споровых, указывать в груде лишайников на столе то "Evernia frunnstri", то "Xantoria parietina", а то и плоское слоевище "Cladoniae"), и видим желто-красные домики профессорского состава, и мне говорят, что в одном из них живет сам Кайгородов… И я, раскрыв рот, смотрю на домик с почтением: "Сам Кайгородов!"