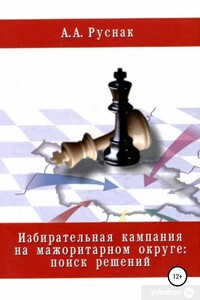О выделенном мышлении и до-мышлении. Опыт странного мышления. Часть III | страница 14
Аналитическая психология
Мышление Фрейда так же, как и мышление Адлера17 – это обычное выделенное мышление. Это мышление, которое пытается выделить себя в качестве какого-то отдельного мышления. И такое мышление, как всегда, все пытается свести к какому-то единому началу, к какому-то первому корню, к какому-то знаку, символу, слову, понятию… и таким образом свести выделенное этим мышлением происходящее к этому выделению, а затем объяснять его в границах такой схемы, а после объяснять таким же образом и другое вовлекаемое в это мышление.
Допустим, если взять такое выделение как «человек», а затем свести это к какому-то факту, к какому-то корню, к какому-то пониманию-смыслу, который как бы раскрывает и объясняет это выделение через это предложенное как основание, то затем через это выделение-сведение такое мышление будет объяснять все происходящее после.
О чем говорит все это, то есть все эти способности выделять? Они говорят о том, что такие способности присутствуют, и все это значительность, но первые основания обнаружить таким образом невозможно. Все попытки сведения-выделения и разговоры о том, что последние основания наконец-то обнаружены, – это разговоры.
После того как будет понято, что любая выделенность-теория-схема – это упрощение, будет разговор о том, что все, что объясняется этой схемой – это только то, что вводится в формат такой схемы, а вся значительность, которую могут предполагать какие-то позитивисты – это их личное заблуждение.
При этом не нужно умалять и силу любого выделенного мышления. Любое значительное выделенное мышление18 – это мощный инструмент, такой же, как и любой другой выделенный умом инструмент, который позволяет значительно влиять на присутствие. И вводимые понятия, и их толкование имеют жизнь в рамках только какой-то выделенной теории. Но затем такая теория может воздействовать на то, что происходит, обладая способностью быть только таким ограниченным, но очень значительным инструментом.
2. Какое-то слабоумие, пределы научного мышления и на службе
Предположим, что ученые всегда имеют дело с сущим и никогда с самим существованием. Ученый может наблюдать разные предметы, какие-то «тела», человеческие тела, он может производить какие-то выводы о том, что происходит с этими телами, он может рисовать какие-то пост теории, экономические, социологические… уже после наблюдения за тем, как действовали эти тела, это сущее. Но проникнуть в глубину акта, в причину того, почему происходило это уже затем сущее, у него нет никаких способов. И наука в таком бессильна? Или, возможно, все работает иначе? И что «такое знание» может сказать о некоей неуловимой онтологии всего происходящего?