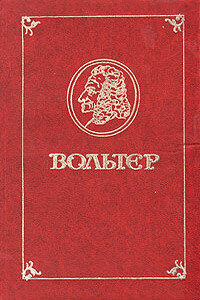Проза бытия | страница 20
Я долго молчу. Слишком долго. Так, что начинает щипать в носу, отчего никак не удаётся справиться с расползающимися от нахлынувших слёз губами. Жалобным, писклявым голосом я шепчу ему на ухо:
– Ба-буш-ка…
Брат понимает, не переспросив, и мелко-мелко трясёт головой. Он тоже плачет, горько и безутешно, не так, когда расшибёт коленку об асфальт.
Чего мы хотим, все? Чего-то самого обыкновенного, – чтобы наше хорошее было всамделишным, по-настоящему, навечно.
Соловей и вода
Не даётся вода соловью так, как песнь. Он и так, и эдак подле неё, а она к нему холодна. Крадучись, с низкого калинова куста, соловейка пробирается по неудоби камней берега, кланяется и опасливо трогает воду за прозрачный подол:
– Здравствуйте, матушка!
Хмурится вода, толкает птицу сырой ладонью. Эх, соловеюшка… Бедный! Легче он перьев, вырванных из хвоста совы, тяжелее, чем взгляд крота. Напетых матерью песен, достаёт ему на всю жизнь33, а подслушанных али переятых34 даром не надь.
То ли грустный с головы до сердца, то ли мокрый с затылка до коготка, сел соловчик на бережок, и ну как свистать да щёлкать. Пошли в ход лешева дудка да кукушкин перелёт, стукотня да раскаты, а как выпал черёд бульканья, прислушалась вода, задумалась, и совестно ей стало, опечалилась думою. Услышала она в песне соловья понятный ей говорок, подвинулась от камешка, поклонилась соловушке, – пей, говорит, полощи серебряное горлышко изумрудным ручьём, балуй себя, тешь, твоя взяла.
Поклонился соловей в другой раз воде, утёр носок, сделал глоток, и вновь за пение, – в благодарность за почтение.
Неразлучны с тех пор вода с соловушкой, – на каждом бережку по колено в топи куст калины, в ямке под ним гнездо, а там и до воды рукой подать. Поёт птица у водицы, а та стоит подле, задумавшись, – так ли живёт, так ли чиста, как оно надобно…
… Не давалась вода соловью ровно, как песнь. Ну, так и та-тко, быват, выходит не с одного разу, и не с двух…
По-братски
Мы с братом сидим на подоконнике и болтаем босыми ногами изо всех сил, расшатывая его. Иногда, в запале, задеваем пятками стену, и это довольно-таки больно, но, чтобы не расплакаться, мы принимаемся хохотать взапуски. Я над братом, братишка надо мной.
Малиновка, – красное с одного боку яичко с острым носиком, расслышав нас, заглядывает в открытое окошко, машет крыльями быстро-быстро, словно манит, и смеётся: «Чего вы там сидите? Выходите во двор, тут хорошо!»
На улице и впрямь здорово. Небо, залитое разноцветными слоями облаков, похоже на радугу, которую мы рисуем, где придётся, когда есть чем. Теперь, впрочем, ни красок, ни цветных карандашей не достать, и мы замазываем полосочки радуги одним простым, серым до седины карандашом, из-за чего получается, что небо над лесом на наших картинах сохнет тельняшкой, и украшено дырами облаков да колючими чаинками птиц в углу листа. По весне они у нас слева, а по осени – в правом верхнем углу. Дед говорит, что мы рисуем неверно, и птицы улетают в ту же сторону, откуда прилетают, но нам с братом кажется, что им было бы так неинтересно, путешествовать всё время по одной и той же дороге.