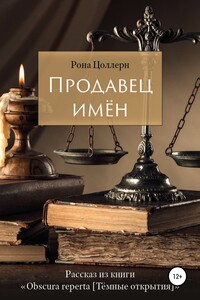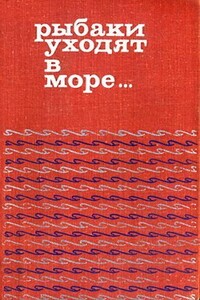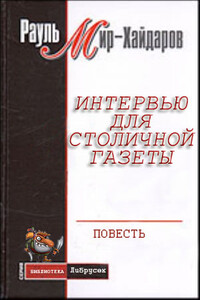Старший мальчик | страница 6
Однажды ночью я услышал какие-то звуки из его комнаты. Он катался по кровати, слезы текли у него по щекам, но он молчал. Я принес лекарство, и чтобы помочь ему дождаться, пока оно подействует, улегся рядом и начал рассказывать. Почему-то я пересказывал ему «Буденброков», со всеми запомнившимися подробностями – истерическим сватовством и хрустящими булками, молодым пылом и неумолимостью семейного блага, он слушал меня так, как я сам когда-то слушал Эшли, и я не мог отделаться от ощущения, что она сидит рядом с кроватью, на которой мы лежали, и улыбается. С тех пор по ночам мы часто ходили в гости друг к другу, я рассказывал брату разные истории из книг, а он немногословно передавал мне тайны своей мальчишеской жизни, в которой были, как мне казалось, одни дальние странствия и эпические сражения. Он вообще был бесстрашным путешественником и поведал мне много интересного о таких темных углах нашей округи, о которых я и не подозревал, или куда побаивался лезть. Иногда мы расходились и гоготали или спорили в голос, и тогда мы не слышали, как проходила по коридору мать, и приоткрыв дверь страшным шепотом кричала: «Быстро спать!», «Вы издеваетесь надо мной?» и иногда даже «Я убью вас, мальчики!». Нам было жаль, что мама так расстраивается и злится, но никой вины за свои ночные беседы мы не чувствовали, наоборот, словно подпитываясь друг от друга, словно сплетая в горячем шепоте свои души, мы становились сильнее и спокойнее.
Однако вскоре и этой радости мы лишились. Брата отправили учиться в пансион. Видимо, оплатил его обучение отец, но сделано это было как-то неявно, через кого-то из родственников. За ним должна была приехать машина, а я очень спешил из школы, и все-таки опаздывал. Хотя я еще вечером собрал для него все, что хотел ему дать с собой, все-таки я надеялся еще чуть-чуть побыть с ним. Я подбежал к дому и увидел эту машину, а мой любимый бутуз, уже сидевший внутри, изо всех сил отпихивал ногами дверь, которую пытались закрыть, и ревел как белуга. Увидев, что я пришел, он все-таки выскочил и вжался в меня головой так, что у меня затрещали ребра. Я гладил его курчавую голову и не мог понять, как мне отпустить его. И только когда зарыдала мать, он послушно отошел, посмотрел на меня исподлобья и молча сел в машину.
Дома стало совсем плохо. Денег не хватало на самое необходимое, мама никак не могла снова начать жить и предпочитала умирать от обиды и несправедливости. Я пытался как-то отвлечь ее, но мои неумелые потуги были бесполезны, и думая обо всем этом, я не мог понять, почему же не кажется ей несправедливым, когда мы лишились отцовской любви, лишить нас еще и материнской. Приходили письма от брата. Я по многу раз перечитывал эти глупые письма, пытаясь увидеть его смешную рожу с засосанной верхней губой и оттопыренной нижней – так он обычно что-то писал – и понять, что на самом деле происходит за его скупыми отчетами о жизни. На летние каникулы его забирали родственники на море, а у нас не было возможности поехать туда, так что я видел его только под рождество. И эти яркие зимние дни мы с ним вспоминали потом во многих письмах. Он похудел, но оставался таким же крепким, неуклюжим и по-прежнему был букой, отчаянным и молчаливым. В школе он привык драться, я постоянно получал от него шуточные тычки и иногда мы с ним словно щенки резвились на снегу и приходили домой в растерзанной одежде и ссадинах к ужасу мамы. А вечером, до отвала наевшись и устроившись у меня в комнате снова рассказывали друг другу свои истории, в которых фигурировали уже новые лица.