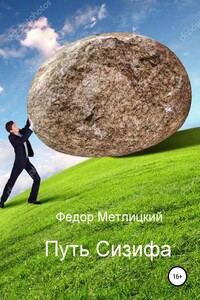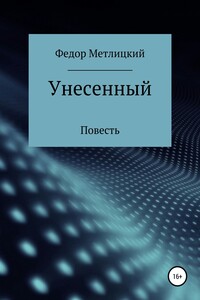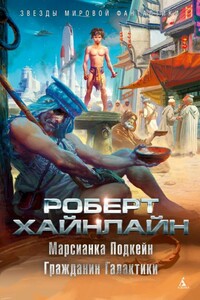Безлюдная земля на рассвете | страница 47
У него всегда было чувство надежности в общей массе патриотов, гордившихся нашими победами над врагами. Хотя иногда в нем возникал комплекс неполноценности перед собратьями по космосу, и приходила в голову смутная догадка о себе.
Он делался закадычным другом, когда я ставил себя на одну доску с ним:
– Стары мы с вами стали, фамилии даже забываем. Приходится в интернет заглядывать.
Он оживлялся:
– Да, старость не радость. Вон, плешь уже появилась. Да и интернета не знаем.
– Это вы не знаете, и не хотите знать! – осаживал я его амикошонство.
Он взвивался от злости. Я раздраженно говорил:
– Надо много читать, чтобы найти ответ на волнующие внутренние вопросы.
– А если нет внутренних вопросов?
– Тогда читайте что-либо более глубокое, чем развлекаловку. И вопросы появятся, будьте уверены.
– Не понимаю, что такое «глубокое». Философия? У нее такой язык, что не разберешь. Если бы была ближе к жизни…
Он явно ерничал. Не было потребности осваивать трудное. Так он и прожил, довольствуясь общепринятыми мнениями и убеждениями, только с годами в нем укреплялась конспирологическая теория о некоем всемирном заговоре, который мешает нам, и ему, жить лучше.
Я был в тупике перед такими людьми, разговаривал из любопытства, пытаясь преодолеть порог, что нас разъединял.
– Чего вы от меня хотите? – спрашивал Михеев.
– Понять, – дружески отвечал я.
– Что под этим имеете в виду?
Я замялся.
– У меня интерес к таким, как вы. Вы представляете мнения больше половины граждан нашего полиса. Хочу войти в их шкуру
– А раньше не знали? – возгордился тот.
– До конца нет.
Отчего вдруг изменяется расположение к человеку на недоброжелательное? Смена настроения, возникшее недоверие? Или вдруг обнаруживаешь, что мы несовместимы, разных корней, и это противоречие уводит в неприязнь? Я ощущал нечто нехорошее к Михееву.
____
Юдин лежал в своей келье, разглядывая беленые своды, и думал о потерянной жизни. Затеявший писать «Роман в никуда», еще перед катастрофой, вспоминал, как горько гордился тем, что его творения не печатают, не понимают. Он знает нечто глубже, чем другие, недалекие. Но жизнь стала скучней, довольствуется только раскрученными авторами, новых художников ему не надо.
Но он все еще хранил свою рукопись, пытался дописывать, уже сомневаясь в своих прежних представлениях. Слова мешали ему ступить на землю, стать органичным. Писал в стол, пока вдруг не испугался, что его гениальное творение пропадет, потому что оно не обросло общественным обсуждением, не прокипячено самой жизнью.