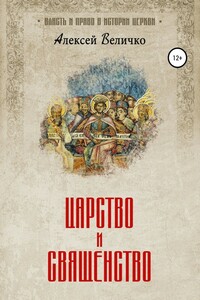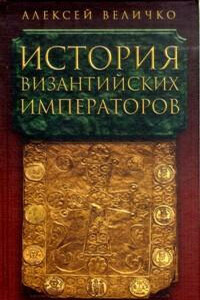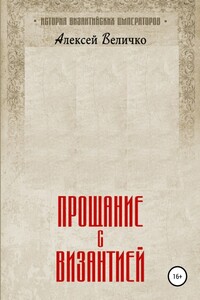Национальный дух и единство Кафолической Церкви | страница 6
Тем не менее процесс создания новых автокефальных Церквей на Востоке быстро овладел умами христиан. Как будто кто-то провозгласил, что только через обособление своей национальной Церкви народы могут сохранить самоидентичность. «Если вы сумели создать собственное национальное государство, то, следовательно, должны иметь и суверенную церковную власть» – стало лозунгом на многие столетия для православных Церквей. И шаткость канонических оснований такого движения никого не смутила.
Напрасно на Константинопольском соборе 1872 г. (который, к слову, Русская церковь проигнорировала) было принято определение с весьма жесткой редакцией: «Мы отвергаем и осуждаем племенное деление, т.е. племенные различия, народные распри, народные рвения и разногласия в Христовой Церкви. Приемлющих такое деление по племенам и дерзающих основывать на нем небывалые доселе племенные сборища мы провозглашаем, согласно священным канонам, чуждыми единой Святой Кафолической и Апостольской Церкви и настоящими схизматиками». Национальный дух при помощи национальной политической власти легко разбивал все канонические преграды, заставляя Константинопольского патриарха в силу необходимости принимать новое положение вещей.
Нагляднее всего «локальность» его власти проявилась в XIX столетии. В 1822 г. Элладская церковь вопреки мнению Константинопольского патриарха объявила о своей автокефалии, и схизма продолжалась 17 лет, пока патриарх не смирился с этой утратой. В 1870 г. вопреки его воле и решениям синода Константинопольской церкви болгары получили автономию, а потом, в 1872 г., и автокефалию по фирмаму турецкого султана. Напрасно греки предлагали созвать Вселенский Собор, дабы разрешить спор: «Веруем и всемерно желаем, чтобы братья болгары, сознав наконец чрезмерность и противозаконность своих требований, заключили домогательства свои в пределы возможного», все свершилось иначе14. И на этот раз духовное единство братьев по вере было забыто во имя национального церковного суверенитета.
И в последующем Константинополь не раз выражал вполне обоснованное нежелание признавать каноничным выделение новых национальных автокефальных Церквей, все было напрасно. В скором времени помимо указанных выше национальных автокефалий образовалась Черногорская церковь (конец XVII в.) и Румынская (1885 г.)15.
Впрочем, это явление не обошло собой и новые территории, где в XIX веке проводилась активная миссионерская деятельность. В 1887 г. В.С. Соловьев горестно констатировал в письме своему контрагенту, что святитель Николай, епископ Японский (память 16 января) в какой-то момент времени пережил крушение своей миссии: японский священник, которого сам Святитель называл «святым Павлом» новой Церкви, отделился от своего архиерея и образовал чисто