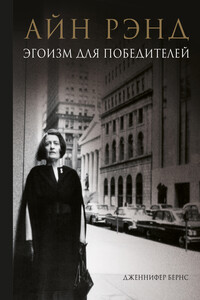Один год и семьдесят пять лет. 1943–1944 и 2018 | страница 8
Долгое время во второй половине ХХ века я мечтал снова посетить эти края. Естественное желание стареющего человека убедиться в том, что мир детства – не сон, а реальность. В советские времена это не было проблемой – поднакопи слегка, убеди товарища составить компанию, и вперёд. Но всегдашняя уверенность в том, что «это никуда не уйдёт», помешала сделать путешествие вовремя. Между тем произошло второе, после семнадцатого года, нашествие «демократов», и всё рухнуло, включая поездки в Восточно-Казахстанскую область. Область оказалась за границей, а денег зарплаты стало не хватать даже на питание. И как-то только недавно, блуждая по интернету, я сообразил, что визит в Пугачёво-Платово можно сделать и виртуально, то бишь посмотреть на те места с высоты космического спутника. Ведь если те места существовали в 1943 году, они существуют и сейчас и должны быть видимы с высоты. Тотчас я оказался над Алтаем и начал спуск вниз. Пролетая над Иртышом, я сразу же воткнулся в плотину Усть-Каменогорской ГЭС. Так вот как она выглядит завершённой, последний раз я видел её ещё недостроенной, в 1950 году. Выше водохранилища реку снова пересекает плотина ещё большего Бухтарминского водохранилища, разлившегося до самого озера Зайсан. Такой подарок суверенному Казахстану создали наши родители в сороковые-шестидесятые годы! Где-то недалеко от затопленных ныне берегов Зайсана когда-то жило памятное мне Дарственное. Нахожу извилистую нитку Курчума и, следуя ей, выхожу на Пугачёво. Существует! Действительно существует, и мало в чём изменилось. Разве что дорога в селе совсем изуродована тракторами, грузовиками, а избы всё те же. Лечу над селом вдоль единственной улицы на выезд к Платову. Вот и дуга поворота. Спускаюсь насколько можно. Нет, конечно, никакой пирамидки в память первого председателя колхоза не видно. Это и понятно, ведь и самого колхоза больше нет. Но где же собственно Платово? Я долго кружу, как терпеливый разбойник-коршун, над берегами Курчума и не нахожу никаких следов Платово – ни дорог, ни изб, ни скотного двора. Никаких следов человеческой деятельности. Наша жалкая хижина бесследно утонула во времени вслед за всем некогда многолюдным селом. Может быть, только кто-то из старожилов Пугачёва, моих сверстников, ещё помнит, что вверх от них по Курчуму когда-то было ещё одно село, носившее имя славного казацкого атамана. Страшно представить, какое бесчисленное множество русских деревень пропадает вот так же бесследно на просторах России и сейчас, в наши бесславные времена. На языке наших «партнёров» это называется санацией территории. Такая активность созвучна деятельности и части современной российской элиты, всячески способствующей уничтожению русских деревень. Ведь такие деревни были не только средой обитания, но и питательной средой, создавшей специфически русский характер. Трудолюбие, непритязательность, терпеливость, неприязнь ко лжи, изворотливости и присвоению плодов чужого труда, смелость в бою и робость перед начальником, привязанность к родной земле, слабость в самоорганизации и неприязнь поддержки успешных соплеменников, самонедооценка и взгляд на чужестранцев снизу, дружелюбие и немстительность – такой богатый, но противоречивый комплекс национального характера позволил побеждать даже таких врагов, как весь западноевропейский фашизм во главе с немецкими экстремистами. Выжатый из деревень, этот народ создал в городах нечто, метко названное Ю.М. Поляковым «этническим вакуумом». Сможет ли и захочет ли этот этнический вакуум побеждать очередных агрессоров – это больной для нас актуальный вопрос.