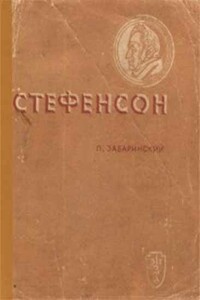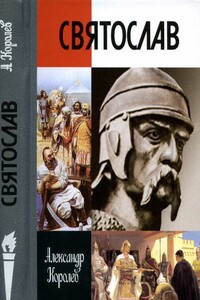Один год и семьдесят пять лет. 1943–1944 и 2018 | страница 23
После окончания уборки и выполнения поставок правление перестало заседать. Наверно, поэтому, за ненадобностью помещения, к нам вселили немцев. Они были примерно от трёх до десяти лет, всего их полтора десятка, с ними одна средних лет белобрысая немка, Эльза Адамовна, и худенькая девочка-помощница лет 15, Катрин. После всего, что мы узнали о немцах за два года войны, было поразительно увидеть не свирепых убийц и бандитов, а вполне нормальных людей. Правда, все они выглядели как-то пришибленно, словно над ними постоянно висело что-то очень тяжёлое. Мама объяснила нам, что это не те немцы, которые напали на нас и убивают на фронте пулями, снарядами и танками, а в тылу с самолётов бомбами, это те люди, которые с незапамятных времён живут в России и называются поволжскими немцами. Они всегда дружно жили с российскими людьми, и потому они вполне нормальные, хорошие люди. Ведь наш дядя Коля Фаренбрух тоже поволжский немец, не германский, и потому не гитлеровский. Всё же и его в первые же военные дни забрали и куда-то увезли. А родителей этих детей тоже забрали и увезли, должно быть, на работы, нужные для защиты от гитлеровцев. Уходить с работы им нельзя, и детей держать там негде. Поэтому детей поместили в детские дома, как сирот. Вот и у нас тут как бы такой маленький детский дом. Дети были очень тихими, разговаривали между собой и с воспитательницей на русском языке. Но так тихо, вполголоса, что никогда нельзя понять, о чём они говорят. Одеты все одинаково – в трикотажные короткие штанишки и маечки одного и того же выцветшего бледно-сиреневатого цвета. Никаких других вещей у них нет. Воспитательница, вместе с Катрин, по вечерам стелет им постель на каких-то разборных кроватках, так что вся красная половина избы становится тесно заставленной. Утром кроватки убирают к стене, чтобы можно было ходить и даже водить маленькие хороводы. Очевидно, Эльза Адамовна настрого запретила детям выходить из их половины иначе, чем по надобности, так что они не пробуют заговорить или играть с нами. В положенное время воспитательница приносит на их половину чайник с горячей водой или кастрюлю с супом. Они аккуратно усаживаются за столом правления и едят из маленьких плоских мисочек. Мы не любопытствуем узнать, что им там достаётся. Вообще, и я, и Люся относимся к ним с какой-то насторожённой жалостью. С одной стороны – поволжские, но, с другой стороны, – всё же немцы, иначе зачем бы стали забирать их родителей. А представить себя на их месте, что у тебя заберут маму и папу и оставят без них – это просто жутко, а ведь у них как раз так. Где-то через неделю мы узнаём, что они пишут письма своим родителям. Для этого им нужна бумага, а где её взять. Тогда Катрин попросила бумагу у меня. Я к тому времени уже получил у мамы разрешение выбрать в сундуке из наиболее старых пачек колхозного делопроизводства чистые или получистые листки школьных тетрадей и чувствовал себя Крезом. Конечно, я с удовлетворением поделился с ней частью своего богатства, понимая, на что пойдёт бумага. На другой день Катрин попросила меня помочь ей с письмами. Дело в том, что самые маленькие, конечно, не умеют писать даже печатными буквами, но тоже очень хотят послать маме письмо. Не знаю, как у них появилась мысль делать письмо так: рука кладётся ладошкой вниз на лист чистой бумаги, и вся ладошка с пальцами обводится карандашом. У малышей это не получалось, и меня попросили помочь. Я старательно обводил растопыренные пальчики, бледно-розовые и хрупкие, как лепестки цветка. Получалась ладошка, и они очень радовались, увидев свою ручку на листе. Теперь надо было только подписать большими печатными буквами имя, и можно отсылать этот привет маме.