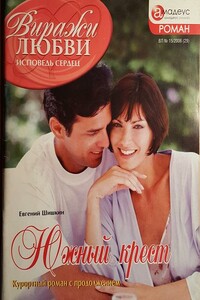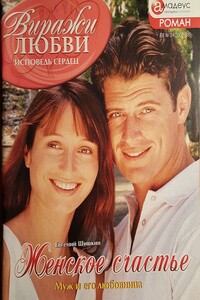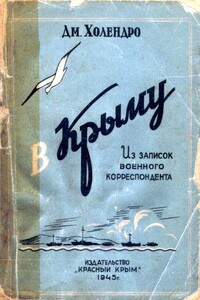Мужская жизнь | страница 75
— Кто ж даёт деньги? — не выдержал я, огласил вопрос, который вертелся на языке. — У вас здесь идиллия. А на пустом месте ничего не растёт!
— У нас здесь коммуна. Здесь труд, сообщество. А ещё есть пожертвования. Ты же сам, Валентин, мне помогал стройматериалами. Есть и капиталовложения. Есть маленькие производства. Есть база отдыха. Есть яхт-клуб. Кстати, его создал твой одноклассник Саша Касаткин.
Нет, не случайно я вспоминал о Сане Касаткине по дороге сюда. Я знал от одноклассников, что он от своего педагога и наставника не отклеился. И многого добился. Про него даже шутили: у него яхта как у Абрамовича.
Ах, как много дает человеку настырность, вера во что-то! Где все те наши школьные красавцы, красавицы, умники и умницы, где? А вот он, Саня Касаткин, расправил плечи. Хоть и рукавом сопли утирал.
— На уху вас приглашаю, — сказал Тимофей Иванович, взглянув на часы.
По дороге с берега Толик шёл впереди, мы с учителем — за ним, говорили меж собой.
— Приезжай к нам, Валентин. Народ у нас славный. Ты строитель. Развернёмся здесь. Чего в городе пыль глотать да бегать за чиновниками, разные бумаги вымаливать. У нас тут небольшой завод стройматериалов намечается, лесопилка опять же.
— Затоскую я здесь, Тимофей Иванович. Я давно от сельской жизни отвык. Тут с семьей, наверное, жить хорошо, когда всё ладится. А я один, одному тяжко. Да и деньги люблю. — рассмеялся, через пару шагов сказал серьёзно, о главном: — Тимофей Иванович, за сыном до осени приглядите. Парень он неглупый, но не определившийся. У меня толку не хватает его на путь истинный наставить.
Тимофей Иванович положил мне руку на плечо, по-отечески приобнял.
На здании конторы, чуть позже, я прочитал на доске объявлений график встреч в клубе «Коммуна». Тут был и член-корр Академики наук, и лётчик-космонавт, и некий г-н Ли, китаец-философ. Я присвистнул: всё тут было непросто, основательно, со смыслом — и врачи-путешественники, и Вадим, моделирующий управление, и график встреч, и сам Тимофей Иванович, неувядающий романтик. И казалось бы, со спокойной совестью, с чистым сердцем, с лёгкой душой должен был я оставить на здешнее житье и попечительство своего отрока, но прощался с Толиком на другой день утром с тяжёлым чувством.
Он ещё спал, когда я поднялся и собрался в обратную дорогу. Я сел на стул рядом с его кроватью, смотрел на него спящего. Болело сердце. Нет, не физически, а как-то тяжело, горестно было внутри, словно печальная тягостная песнь звучала в груди. Вот оставляю здесь сына, как будто экспериментирую с ним. Разве он сам не может определить себе дорогу и призвание, ведь сам-то я шёл своим путем, своей дорогой. Как уехал из дома в восемнадцать лет, никаких поводырей не имел. Может, Толик мой человек слабый, требующий защиты и опеки? Может, поэтому так щемит сердце?