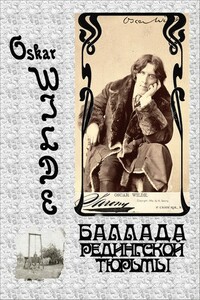Избранные стихотворения и поэмы (1959–2008) | страница 27
Поле это вспоминаю,
да посылки Николаю
черных мелких сухарей.
Это надо бы подробней,
да легла плитой надгробной
тяжесть та... А что слова?
Бесталанно наше море.
Реки слез и горы горя.
Как у всех. У большинства.
Не избыть. Да и к корыту
приписали, то есть к быту,
мол, такой-сякой поэт
прозой жизни озабочен.
А в России, между прочим,
быта и в помине нет.
Есть борьба за жизнь, при этом
за такую, чтобы светом
выбиться, как из земли
всходы прут, – но с постным
видом муку мученскую бытом
называть – не слишком ли?..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Путь из худобы в худобу:
я уехал на учебу
в институт, осел в Москве.
Там уток, а тут основа.
Не шелково, а сурово
шилась по стальной канве
жизнь моя. Текли как воды
дни, и месяцы, и годы...
Оглянулся: как вы тут?
На лице морщины или
трещины в прибрежном иле?
И дошло: к земле растут.
Вот они – под абажуром,
выбеленные на хмуром
оттиске, как негатив.
Кажется, не постарели –
выбежали из метели
девочками, все забыв.
Стало быть, не за горами
смерть уже, а за плечами,
вот и внучек под крылом
вырастили честь по чести,
пожили со всеми вместе,
тут и знамение в дом.
– Две синички прилетели,
крыльями прошелестели, –
сон припомнила сестра, –
и за почту повернули,
не иначе, к тете Нюре,
думаю, пришла пора.
Так и вышло. Утром к маме
Оля, только что от Мани,
и с порога: – Николай!... –
Не дослушав, задрожала,
как слегла, так и не встала,
поболела – и прощай.
В полночь, точно жар колотит,
закричал отец: – Отходит! –
и как мертвый сам затих.
Белый, он стоял в исподнем,
словно в саване Господнем, –
снег один укроет их.
А она была прекрасна –
спящая. Я помню ясно,
как разгладились черты
смуглого лица и тело
медленно помолодело,
тяжкое от пустоты.
А как в дальний путь отпели,
ровно через две недели
Маня следом – знать, беда
не одна пришла к порогу,
режьте лапник на дорогу,
открывайте ворота.
Запрягайте сивку-бурку
в сорок сил. На стол к хирургу
лег Григорий, отошел
от наркоза, сам побрился,
а назавтра свищ открылся,
со стола опять на стол.
Мы несли его по снегу,
по протоптанному следу –
я лица не узнавал –
на двойных сороковинах
поседел и от токсинов
в муках страшных умирал.
Приказал к тому же ряду.
По гражданскому обряду
с музыкою духовой
мы его похоронили
и стояли на могиле
вечность целую с сестрой.
Это ж ум зайдет за разум,
чтобы чохом или разом
все управились – проверь
по табличкам – за год, за два,
ничего не скажешь, жатва
так уж жатва! Без потерь.
Даром во бору упала
ель-сосна, недаром стала
тетя Оля попивать.
Говорю ей: – Бог накажет, –